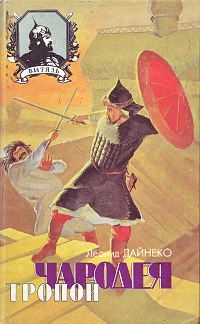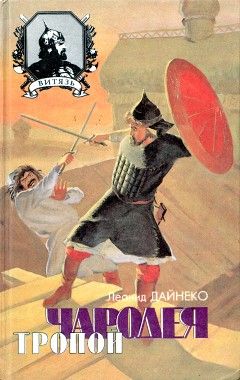Торд не согласился:
— Сыны холодных морей плавают по Средиземному морю, как у себя дома. Стяг викингов, на котором вышит ворон, поднят уже над Сицилией. Наши мечи, или, как называют их скальды, серпы ран, не может остановить никто. Ваша же империя, прости меня, уже не девушка и даже не молодая женщина, а бабушка.
Это было оскорбление, однако ромей проглотил его, как глотают на званом обеде у базилевса сильно переперченное мясо. И жжет, и рот горит, а вынужден улыбаться.
— За силу, — поднял кубок с кипрским вином Тарханиот.
— За силу, — поддержал его Торд.
Ромей умел пить не пьянея. Такому умению предшествовала терпеливая тренировка. Надо было, когда пьешь вино, затаивать дыхание, делать долгий глоток, выпив перед этим ложку оливкового масла. Когда же приходилось пить слишком много, когда уже и желудок трещал от вина, ромей под благовидным предлогом выходил из-за стола и в соседней комнате засовывал себе в рот гусиное перо, смазанное жиром. Рабы вытирали с пола рвоту, а ромей снова был легок и трезв. Так он сделал и сегодня. Торд уже пахал носом стол, а Тарханиот, хитро усмехаясь, все наливал и наливал. «Пей, варвар, — злорадно думал он. — Ты назвал империю старой бабушкой, но эта мудрая старая бабушка будет жить вечно, а вы, молодые, жадные до вина и крови, захлебнетесь в собственной блевотине у ее ног. Недаром бог посадил виноградную лозу именно на нашей земле, он знал, что только ромейский народ может силу и ярость вина подчинить своему разуму. Варварские племена спились бы, как щенята, имея в своем огороде, под своим окном такую лозу».
Вино сделало Торда более болтливым и покладистым. Он начал даже хвалить Византию. Это сразу уловил Тарханиот, сказал:
— Империю можно любить, ей можно служить, живя и далеко от нее. Солнце же далеко от нас, в небесной бездне, но оно греет всех нас, освещает пути, помогает созреть нашему хлебу, и все мы любим его. Так и Византийская империя. Тот, кто верен ей, счастливый человек, ибо она умеет жестоко карать отступников и врагов своих.
— Я не враг, — мотнул пьяной головой Торд — Моя боевая секира ни разу не была красной от ромейской крови. Я хотел бы увидеть ваше ромейское войско, потому что слышал, что оно сильное и очень хорошо вооружено. А я люблю хорошее оружие.
— О, нашему войску нет равного! — воскликнул Тарханиот. — Я видел его в сирийской пустыне. Впереди идут бандофоры-стягоносцы и букинаторы-трубачи. За ними — фаланга тяжеловооруженных пехотинцев, которые называются скутатами. Легкая пехота, или, как мы называем их, псилы, окружает со всех сторон скутатов, помогает им во время боя. Колонны скутатов как живая крепость, за которой могут спрятаться и конница, и легкая пехота. Все в ярких плащах, в блестящих доспехах, с обоюдоострыми секирами и копьями, с рогатыми железными шарами, с арбалетами-саленариями, А следом движется обоз, в котором везут воду и хлеб, фураж для коней, ручные мельницы, пилы, молотки, штурмовые лестницы, понтоны для переправы через реки и огонь, наш знаменитый и страшный мидийский, или греческий, огонь. Это надо видеть своими глазами, надо слышать мерный шаг фаланги, когда лишь песок скрипит под сильными ногами, когда змеи прячутся в норы, а крылатые орлы — в расщелины скал, и увидев все это, обязательно скажешь себе: «Вот они — непобедимые! Вот они — бессмертные!»
Торд слушал Тарханиота как зачарованный. Ему, рожденному под шум битвы на дне варяжской ладьи, эти слова были как бальзам, как ласковая улыбка самой святой девы.
— Русы тоже неплохие вои, — продолжал ромей. — Империя помнит князей Олега и Святослава. Киевский меч расширил границы державы от Евксинского Понта [30] до льдов Севера.
— Крепкий боевой народ, — согласился Торд.
— Но им никогда не сравняться с ромеями, — сверкнул глазами Тарханиот. — У нас один бог и один богоносный император, а они, кроме Христа, поклоняются, хоть и тайком, лесным идолам, и каждый их город, каждый удельный князь хочет отделиться от великого князя киевского Изяслава, хочет сам себе быть хозяином. А это — смерть для державы. Стена всегда стена, но если разобрать ее на отдельные камни, за которыми не спрячешься от вражеского меча, стена становится грудой камней. От наших корабельщиков слышал я, что в южных морях есть магнитная гора. И вот когда к ней подплывают, магнит притягивает с корабля все железные части: гвозди, болты, заклепки, и корабль рассыпается. Понимаешь меня? Власть единого базилевса то же железо, которое крепит корабль державы. Ну еще, если быть точным, державу укрепляют золото и серебро.
— Что золото и серебро?! — вдруг воскликнул Торд. — На свете нет ничего более яркого, чем вода и огонь.
Тарханиот удивленно посмотрел на него, понял, что мозг варяга до краев наполнен вином, но не отступил, продолжал тянуть свое:
— Ты, наверное, знаешь и, наверное, видел, что здесь, в Киеве, в порубе сидит полоцкий князь Всеслав.
Торд согласно кивнул головой.
— Знаю, очень отважный князь.
— Так вот, наш базилевс этому князю вместо воды давно налил бы в кубок отвар цикуты, и князя бы не было. Но это пело самих русов, самого великого князя Изяслава. Я же хочу сказать, что Всеслав Полоцкий, как и ты, бесстрашный Торд, может стать верным другом Византии.
При этих словах Торд поднял голову.
— Империи нужны такие люди, решительные, крепкие, люди, которых уважает и любит народ, — не прерываясь, продолжал Тарханиот. — И ты не ошибешься, отважный Торд, если более внимательно посмотришь на Константинополь, стены которого возведены не из соломы и не из тростника, а из мечей и копий непобедимых воинов.
— Но я служу великому князю Изяславу, — вдруг проговорил Торд.
— Все мы служим Христу. Он — единственный наш владыка, — возвел очи горе Тарханиот. Душу ромея охватила ярость. Оказывается, этот северный варвар, этот пьяный тюлень помнит о том, кому он служит, и не лишен благородства. «Что ж, не всякое дерево сразу гнется, — подумал Тарханиот. — Но я уверен, что скоро найду ключ и к железному сердцу варяга». Он поднял кубок, сказал:
— Давай, как друзья-застольники, выпьем за те дороги земные и морские, которые еще ждут нас в нашей жизни.
— Выпьем, — встрепенулся Торд.
Когда наконец пьяный Торд ушел, ромей приказал принести папирус, чернильницу, перо и, глядя на желто-пунцовый огонек свечки, застыл в глубоком раздумье. Это были лучшие мгновения. Суета дня сплывала, душа очищалась, становилась кроткой и спокойной, можно было подумать о смысле жизни. Тарханиот с ранней юности приучил себя смотреть на все трезво, стараться как можно глубже проникать в сущность вещей и явлений. Он хорошо помнил слова великого сицилийца философа Эмпедокла:
Землю землею мы видим, видим воду водою,
Дивным эфиром эфир, огнем огонь бессердечный,
Любовь мы видим любовью,
Разлад ядовитым разладом.
Хотелось написать что-то мудрое, значительное, чтобы далекий потомок-ромей вот такой же одинокой глухой ночью жадно читал, волновался от прочитанного, долго не спал, перекликался с ним, Тарханиотом, чуткой душой через столетия. Там, в недосягаемом будущем, будет такой же ветер, и будет шуметь река, неумолчно, глубинно, и будет кто-то идти по ночной тропинке, над которой горят задумчивые голубые звезды. Только родишься, только разумным оком глянешь на свет, как уже надо готовиться к жизни небесной, вечной.
Тарханиот вздохнул, отложил перо. Не писалось. Он велел вызвать Арсения, приказал, чтобы тот привел Дениса, нового раба. Когда раб вошел, посмотрел на него и на Арсения, строго, в гневе изогнул густую черную бровь, сказал:
— Этот рус слишком волосатый. У раба должна быть голая голова, на которую можно сыпать пепел и песок. Пусть его остригут, и ты, Арсений, снова приведи его ко мне.
Вскоре Дениса привели уже остриженным. Белая незагорелая кожа на темени резко отличалась от смуглой, почти коричнево-черной кожи щек. Но ничего — поработает на солнце день-другой и сразу станет темноголовым.
Раб стоял понурый, невеселый. Они, рабы, веселыми бывают только тогда, когда с разрешения хозяина пьют неразбавленное вино, падают на землю, бормочут что-то непонятное и смеются, как дети. У Тарханиота это всякий раз вызывало отвращение. Пьяная дикая улыбка на худом, до времени постаревшем лице была улыбкой дьявола.
— Тоскуешь по родине? — спросил Тарханиот. Он сам удивился своему вопросу. Разве рабам-варварам известно, что такое тоска, честь, ощущение утраты? У них есть мускулы, глаза, рот, имеются зачатки души, но только зачатки. Душа рабов — бескрылая слепая птица. Вопрос вырвался сам по себе, наверное, он, Тарханиот; расчувствовался, смягчился, вспомнив Эмпедокла.
Не слыша ответа, Тарханиот продолжал:
— Здесь, в Киеве, сидит в порубе вместе с сыновьями князь Всеслав Полоцкий. Твой бывший князь. Понимаешь?