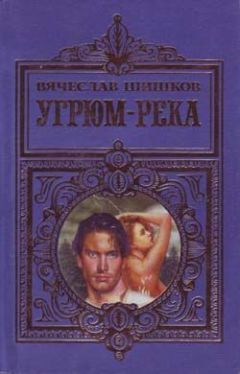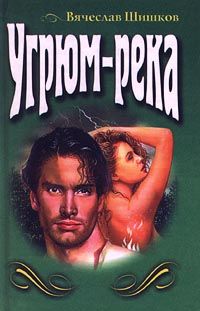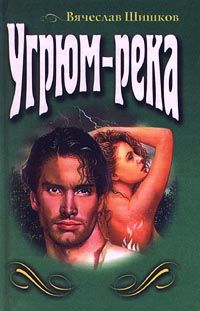– Здорово, Ананий! – поприветствовал его Изотыч.
Старичок промолчал, истово перекрестился в передний угол, где за лампадкой темнели безликие, покрытые сажей доски.
– Каково живешь, Ананий? – вновь спросил Изотыч.
– Он – молчанка. Попусту спрашиваешь. С миром он не говорит теперича.
В лачуге сделалось жарко. Петр Данилыч разделся до рубахи. От духоты и жару заболела голова. Он раскаивался, что завернул к старцам, не давшим ему облегчения, и еще раз обратился к Назарию:
– Как же быть-то? С сыном-то? Научи-ка ты меня.
– Время укажет. Ничего я не знаю... Терпи.
Переночевав у старцев, купец уехал с неприятным чувством к ним и со злобой на болтливого Изотыча.
Через двое суток он прибыл в деревню Подволочную, до крыш засыпанную снегом, грустный и встревоженный.
Марья Кирилловна по отъезде мужа ежедневно заказывала обедни с коленопреклоненными молебнами о здравии страждущего и путешествующего отрока Прохора.
Отец Ипат с сугубым усердием и воздеванием рук справлял заказную требу – плата была приличная и, помимо того, каждый раз сдобный пирог с изрядной выпивкой. Марья Кирилловна не пожалела бы для отца духовного и бочки самолучшего вина, лишь бы праведный Господь внял неусыпным ее мольбам, преклонил ухо стенаниям ее.
Заручившись через посредство отца Ипата Божьим милосердием, Марья Кирилловна, подчиняясь своей женской слабости, а главное – по наущению стряпухи Варварушки и приказчика Ильи, решилась обратиться с ворожбою и к шаману, сиречь к услугам адских сил самого диавола. Не обмолвилась она об этом ни одним намеком отцу своему духовному, хотя прекрасно знала, что от злостного запоя лечил отца Ипата шаман-тунгус.
И декабрьским вечером, наказав всем сказывать, что уехала в город к мужу, в сопровождении глухого дворника, белобрысого горбуна Луки, отправилась в темную тайгу за ворожбой.
«Господи, прости ты меня, грешную!» – всю дорогу вздыхала тайно душа ее, но уста безмолвствовали: нельзя имя Божье поминать, раз решилась на такое дело, нельзя даже крест на груди иметь – Марья Кирилловна ехала без креста, как изуверка.
Резвый иноходец примчал их седой ночью к тунгусскому стойбищу. На круглой поляне, примкнувшей к проезжему зимнику, ярко пылал неугасимый костер-гуливун. Под его колеблющимся светом плавно колыхался истоптанный оленьими стадами снег, а стволы деревьев подпрыгивали и дрожали, будто им снился страшный сон. Несколько остроконечных чумов мирно почивали; лишь в том, что стоял посредине, слышались крик и рокот бубна.
– Ишь ты! – воскликнул тугой на ухо Лука. – Я и то слышу. Волхвует он. О-о! Эвот-эвот, как всхамкивает!..
Марья Кирилловна, робко озираясь, с жутким чувством подходила к чуму: ей мерещилось, что вся поляна кишит нечистой силой, что в темном дыме над костром крутятся шайтаны и шиликуны: вот они увидали ее, вот с гамом мчатся к ней.
– Ай, Лука! – И бескрестной, ради сына откачнувшейся от Бога изуверкой Марья Кирилловна вбежала в чум.
В пудовой шаманьей шубе, увешанной железными побрякушками, шаман Гирманча неистово бесновался по ту сторону костра, бил в огромный бубен, гикал. А перед костром, у входа, на оленьем коврике, выставив кверху непомерный свой живот, лежала вся иссохшая, полумертвая жена его и печальными, в слезах, глазами обреченно смотрела куда-то вдаль.
Шаман был нем и глух к вошедшим. Марья Кирилловна забилась в угол и ждала. Она видела, как шаман сглатывал-сжирал болезнь жены: «Хам-ам! Агык!» – как с заклинаниями мазал жертвенной оленьей кровью и лоб, и грудь, и живот своей жены, как снова осатанело кружился у костра, вот бессильно упал наземь, тяжко застонав.
А когда очнулся, снял шаманью шубу и, выкурив подряд три трубки, сказал Марье Кирилловне:
– Здорово, Машка! Пошто прибежаль?
– Голубчик, Гирманча... – начала она. – Вот какое дело-то... – И все рассказала ему про сына, потом вынула из саквояжика дары. – Это тебе, а это жене твоей... Ради Бога... Ой, тьфу, тьфу, тьфу! Погадай, пожалуйста... Места не найду. Того гляди – разума лишусь. Сердце мое в тоске.
– Ничего... Это ладна, – радостно сказал шаман, с жадностью набрасываясь на бутылку коньяку – подарок. – Ужо пойду самый главный шайтан кликать, самый сильный... Ехать шибко далеко надо, ой-ой, как... Туда, да туда, да туда... Где найдешь? Может, твой парень сдох, в ад надо ездить, в черный день ездить... Может, сдох, как знать.
– Что ты, что ты! – слезливо скривила рот Марья Кирилловна, подняла голову – Гирманчи в чуме не было.
Звал-призывал Гирманча в тайге главного шайтана, и гортанный голос его то взлетал над чумом, то спускался в преисподнюю, был глух, придавлен.
Один за другим стали собираться в чум заспанные тунгусы. Щурясь на яркий свет, садились они живой подковой вокруг костра, приветливо посматривали на гостью: авось поднесет по чашке огненной воды, от которой вдруг станет весело в руках, в ногах, вдруг сгинет зима, мороз, болезни, каждый будет богат и силен.
Гирманча вошел усталый, бледный; с прошлой ночи он ничего не ел: нельзя. Но движения его четки, быстры. Окинув возбужденным взглядом чум, он сел на олений коврик-кумолан и потребовал костюм шамана. Ближний родственник Гирманчи подал сапоги, тяжелую шубу, шапку, рукавицы и стал над костром греть бубен: кожа натянется сильней, бубен будет говорливей, гулче.
Настроение шамана стало нервным. Он бесперечь курил, заразительно позевывал – трещали скулы, – присвистывал, что-то невнятно бормотал. И вновь без конца зевал, раздирая скулы. Взволнованная Марья Кирилловна сидела по ту сторону костра, против шамана, с упованием смотрела на него.
Вдруг худощавый, с моложавым ласковым лицом Гирманча исчез – перед ней сидел теперь грозный, грузный, в колдовском облачении шаман.
– Бубен! – крикнул он и тихо ударил колотушкой в хорошо натянувшуюся кожу.
Глухо вздохнул оживший бубен раз, другой... Затянул шаман, запел, как во сне, тонким голосом, стал по-тунгусски нараспев рассказывать, что пришла к нему богачиха Машка, ну что ж, он услужить ей рад, вот только, пожалуй, трудно будет сегодня летать ему; ну да ничего, он знает как. Лишь бы подальше от свежих могил, от теней, карауливших еще не сгнившие свои тела, от коварных колдунов, от логова рожающей бабы. Дальше, дальше!
Удары в бубен стали постепенно учащаться, стали громче.
– Эй, духи, собирайтесь! – Он уткнулся головой внутрь бубна и поет, приветствуя каждого явившегося духа: – А, это ты, гагара? Вот славно... Ты самая проворная... Эй, добро! Помнишь, как мы ныряли с тобой, едва дна достали?.. Карась тогда густо шел, не протолкнешься. О-о-о... А где твоя сестра, твой брат?
И чудится суеверной Марье: один за другим духи собираются, собираются, невидимкою садятся на край бубна, ждут. От дыры вверху, сквозь которую смотрят с неба звезды, и до последнего темного угла весь чум стал наполняться жутью, нежитью. И чудится всем одуревшим, всем потерявшим здравый рассудок: ночные волшебные силы шепчутся, колышут присмиревший, напитанный адским смрадом воздух, все прибывают-прибывают, тихим свистом приветствуя своего знакомца, который призвал их к бытию. Добрые и злые, покорные и, как взбесившийся сохатый, буйные слетаются со всех семи небес, земли и преисподней.
И раздается сердитый, надтреснутый голос шамана:
– А! Это ты, проклятый змей? Это ты огадил мне в тот раз глаза, чтоб ослепить меня? Врешь, вижу! Вижу! Я сильней тебя!.. А ну, давай тягаться!..
Вот оглушительно ударил бубен – все в чуме затряслось, заколыхалось, – гикал, гукал шаман страшным голосом, и все железища на его шубе злобно встряхивались и звенели.
Марья Кирилловна окаменела, сердце замирало, металось в страхе. Пока не поздно, надо бы бежать... «Лука, Лука!.. Где он?»
– Все! – крикнул шаман и поднялся во весь рост. – Слетелись, съехались, примчались... Все! Та-та-та... Та-та-та... О, вас много!.. Бубен мой огруз... Эй, подсобляйте! Выше подымайте меня, выше!
Он крутнулся, ударил что есть сил бубном в левое колено и стал скакать вокруг костра на обеих ногах враз, как воробей. Гикал, каркал, пел на непонятном языке, и зрители, доселе равнодушные, начали подхватывать хором никому не ведомую песню.
– Выше, выше подымай!!
Голоса их дики, исступленны – словно медвежий зык; они рычали, взлаивали по-собачьи; вот кто-то подавился, кто-то пронзительно завыл. Действо началось. Все кругом взбесилось. Чум дрожал.
– Агык! Агык!! Та-та-та-та! – ревел шаман, крутясь и ударяя в бубен.
– Я уже высоко, – заговорил он теперь далеким, как чревовещатель, голосом, а неистовый рев кругом начал меркнуть, униматься. – Вот реку вижу на три оленьих перехода вверх, на три вниз... Вот чум... Эй, кто там? Эге, это старый Синтип сидит...
– Что он делает? – несмело выкрикнул из тьмы горбун Лука.
– Сеть чинит, крючки точит... Ага, тут возле озера – леший о семи глазах. Пусть торчит, как сгнивший пень... Там, внизу, не видать ни одного врага... Важно... Эй, мошкара моя! Поднимай меня выше! Буду дальше смотреть.