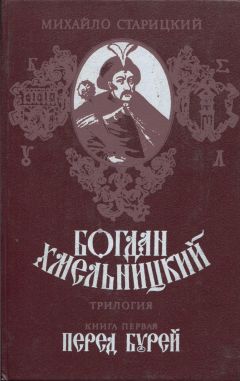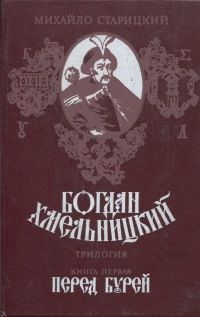— Я размечу это чертово гнездо! — дернув стулом, синея и нервно дыша, крикнул Ярема.
— И этим бы причинил князь несчастье отчизне, — загорелся огнем и Конецпольский. — Нельзя истребить нашу лучшую пограничную стражу... да... лучшую. Она еще сослужит нам службу, а разметать — это... это открыть татарам всю нашу грудь.
— Построить другой Кодак на месте их гадючьего гнезда, — шипел Ярема, — третий, четвертый...
— Если бы князю удалось заковать даже Днепр, — снисходительно улыбнулся Конецпольский, — то какими... какими цепями перегородит он Буджакские степи?{62}
— Моими гусарами, драгунами, — с пеною у рта уже рычал князь.
— До первой погибели в пустыне, — процедил гетман.
— Верно, как бога кохам, — присовокупил Калиновский, — наши не могут переносить пустынных лишений, а граница так беспредельна... Враг прорвется везде.
— И тогда, княжья мосць, — заметил, отдуваясь Корецкий, — все наши благодати обратятся лишь в одно воспоминание.
— Никогда! — ударил по столу рукой князь. — Я за свою шкуру не боюсь и отстоять ее сумею... Только у страха глаза велики...
— Не у страха, мосци княже, — заметил сдержанно гетман, — а у благоразумия.
— Родные братья, — даже отвернулся Ярема.
— Не безумная отвага и ненависть, — уже дрожал Конецпольский, — созидает царства... созидает и упрочает благо... Нет! Здесь нужны не запальчивость, а проницательность и благоразумие... Ведь князь и вы, шляхетные панове, не должны забывать, что ведь это... это не завоеванная страна, а перешедшая добровольно... вместе... Литва и она... И эти козаки и хлопы тут, до нас, были у себя хозяевами.
— Да продлит бог век его гетманской мосци, — сказал с чувством Кисель.
Послышался и сочувственный, и неприязненный шепот.
— Гетман, кажется, — прищурил Иеремия глаза, — к своей булаве желает присоединить и трибунскую палицу.
— Я, княже, не заискиваю у плебса, — гордо ответил гетман, побледнев даже под румянами, — но... но... не одному врагу, но я и правде привык смотреть прямо в глаза... Да, хозяевами были, это нам нужно помнить и в наших же интересах действовать осторожнее, не раздражать... Мятежников мы усмирили, но корня мятежа — нет! Он кроется именно в том, именно... что вот они были хозяевами. Мы несем сюда свет и жизнь, и потому владычество должно принадлежать нам; но мы должны помнить, да... помнить, что они были хозяевами, а потому... — заикался все больше и задыхался гетман, — а потому и им должны оставлять крохи, успокоить строптивых, усыпить, обласкать и поднять надежных, верных нобилитировать, да... да исподволь приручать, избегая насилия.
— Политика вельможного гетмана, — улыбнулся одобрительно патер, — весьма тонка и остроумна; она рекомендуется и нашим бессмертным Лойолой{63}; но она медлительна, а в иных случаях...
— Это смерть! — оборвал князь Ярема.
Одобрительный в пользу гетмана говор снова притих; но Конецпольский продолжал смело:
— Иначе мы истощим силы в «домовой» борьбе, и если задавим козаков, то... то... татары, Москва... нахлынут, и... и... защищать будет некому.
— Разве, кроме этих собак, нет под вашими хоругвами храбрецов? Если нет, так у меня их хватит на всех! — ударив себя в грудь, гордо обвел рукою Вишневецкий собрание.
— Никто не сомневается в ваших храбрецах, княже, — задыхался совсем Конецпольский, — но это... это... не дает пану права сомневаться и в наших!
Все смутились и замолчали. Князь Ярема почувствовал себя тоже неловко и с досады крутил свою бородку.
— В войне с дикими ордами, позволю себе заметить и я, — начал Кисель тихим, вкрадчивым голосом, воспользовавшись общим молчанием, — берет перевес не храбрость, а знание врага, изучение всех его уловок и хитростей, — так сказать, полное уподобление природы своей природе врага. Такое уподобление, панове, приобретается не сразу, а десятками лет... Как пересаженное с полуденных полей древо гибнет среди чуждой ему пустыни, так гибли бы непривычные к степям новые воины... И столько бы пало жертв, дорогих для отчизны! А между тем сыны этих степей — козаки...
— Да, вот их и подставлять под удары татарских сабель и стрел, — прервал Любомирский, — а не шляхетных рыцарей польских!
— Почаще бы их, именно, в самый огонь! — зарычал Чарнецкий.
— Досконально! Кохаймося! — послышались крики, и более разгоряченные головы полезли чокаться кубками и обниматься.
— Да, кохаймося! — поднял кубок Кисель. — Пусть будет меж нами мир и любовь, пусть они породят у нас кротость и снисхождение к побежденным... к меньшей братии... Она за это воздаст нам сторицею. Теперь открывается, вельможное панство, новая Америка... В недрах этих земель, не ведавших железа, кроются неисчерпаемые животворные силы... И если эти пространства заселятся нашим трудолюбивым народом, то широкими реками потечет к нам млеко и мед.
— Вельможный пан прав — эта мысль должна руководить всеми нами! — дружно заговорило шляхетство, затронутое в своих интересах.
— Оно озабочивает меня, — заметил Конецпольский, — а равно и Корону.
— Разумеется, теперь нужно вельможной шляхте захватывать пустоши, — отозвался Чарнецкий, — и заселять их хлопами.
— Пся крев! — вскрикнул снова Ярема, теряя самообладание. — Расплаживать этих схизматов?[35]
— О, sancta veritas![36] — всплеснул патер руками, сложив их молитвенно. — Неверные схизматы не могут быть ни гражданами, ни охранителями Речи Посполитой, матери верных святейшему престолу сынов, носительницы благодатного святого католицизма, — не могут, ибо они в глубине души, пока не примут латинства, враги ей и могут продать ее всякому с радостью.
— Еще бы! — отодвинулся с шумом от стола Ярема.
— Велебный отче! — обратился Кисель к патеру, взволнованный и оскорбленный. — Называя всех схизматов неверными сынами отечества, вы оскорбляете большую половину его подданных и оскорбляете невинно! — возвысил он голос. — Во мне горит и чувство личной обиды, и чувство любви к великому отечеству, которое вы желаете разодрать на два стана. Я ручаюсь седою головой, что вражды этой между народами нет, а создают и разжигают ее служители алтаря кроткого и милосердного бога.
Послышались глухие, враждебные возгласы: «Ого, схизмат!»
— Да, я схизмат, я греческого благочестия сын, — окинул смело глазами всех черниговский подкоморий, — и не изменю, как другие, вере моих предков.
При этом слове, как ужаленный, вскинулся князь Ярема, ухватившись за эфес сабли.
— Не изменю! — почти вскрикнул Кисель. — Но я люблю искренно нашу общую мать Речь Посполитую, люблю, может быть, больше, чем вы! Да, я ей желаю мира, спокойствия, процветания, блага. Как солнце одно для земли, так и бог един для вселенной; как солнце одинаково светит для добрых и злых и всех согревает, так и творец небесный есть источник лишь милосердия и любви. Как же мы можем призывать всесвятое имя его на вражду и на брань против братьев?
— Ради спасения заблудших овец, — смиренно возразил патер, — и ради снискания им царствия небесного...
— Не заботьтесь, велебный отче, о чужих душах: пусть каждая сама о себе печется!
— О, слепое упорство! — воздел высоко патер руки и опустил на грудь отяжелевшую от вина голову.
— Панове! — воскликнул взволнованным голосом Кисель. — Святейшие иерархи молятся о братском примирении христиан, а мы насилием сеем, на радость сатане, злобу. Из великой мысли братского единения церквей создаем варварскую, ненавистную тиранию.
— О́гнем и ме́чем! — схватился с места, ударив о пол саблей, Ярема; удар был так бешен, что ближайший кувшин с малагой упал, разлив по скатерти драгоценную влагу. — Довольно я здесь наслушался кощунств над моей святой верой и обид величию моей отчизны!
Сдержанная злоба теперь вырвалась из удил и с пеной и свистом вылетала сквозь посиневшие губы; по лицу у Яремы бегали молнии, глаза сверкали фанатическим огнем, рука была готова обнажить меч. Все непроизвольно отшатнулись от стола; некоторые ухватились за сабли, и только головы немногих лежали уже бесчувственно на столе.
— Конечно, панове, вам дороже всего своя шкура, — побагровел Вишневецкий, причем пятна на его лице сделались синими, — оттого вы и слушаете искушения, а я вот клянусь, — поднял он правую руку, — или все церкви в своих маетностях обращу в костелы, или пройдусь огнем и мечем по схизматам, приглашу вместо них на свои земли поляков, немцев, жидов; но ни один схизматский колокол не зазвонит в моих владениях!