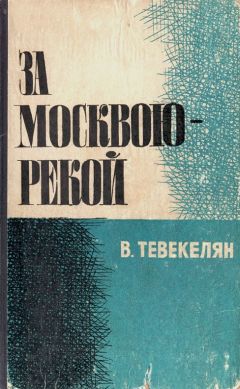Живописцам пожаловали послы сто золотых и десять сороков соболей Демьяну Кочубею, который картину малевал.
На посольское подворье нырнул человечек с кругленьким бочонком в руках. Протолкался на крыльцо. Низко в ноги поклонился боярину Бутурлину.
— Прими от убогого человека, чернеца Вонифатия, вино из земли Афонской. В подземной пещере на добрых ягодах, освященных Коринфским патриархом, оное вино настояно. Пей во здравие свое и наше и земли православной.
Бутурлин велел вино принять, чернецу дать десять золотых и дубленый кожух.
Взял чернец золотые, кожушок надел на себя, поцеловал руку боярина и пошел прочь со двора.
Думный дьяк Ларион Лопухин, пока боярин и стрелецкий голова Матвеев с муромским наместником Алферьевым отвечали с крыльца на приветствие киевлян, нацедил из бочонка черночьего кварту вина, выпил одним духом. Сказал сам себе: «Доброе вино афонское! Еще, пожалуй, выпью, чтобы лучше распробовать…»
Налил еще с полкварты и выпил. Пошел к себе. Потрогал замок на окованном железом сундучке, где сберегались тайные грамоты. Зевнул и стал творить молитву вечернюю. Но глянул в окно и перестал молиться. Какая там вечерня, когда уже светает!
— Грехи, грехи… — пожаловался вслух и лег, не раздеваясь, на постель.
Проснулся Лопухин от страшной рези в животе. Вскочил с постели, осененный внезапной догадкой:
«Отравился вином афонским…»
Едкая горечь обжигала горло. не было сил стоять на ногах. Липкий пот проступал по всему телу. Пересиливая боль, поплелся в посольские покои. Открыл дверь, перешагнул порог и упал. Бутурлин, Матвеев, Алферьев, Иван Золотаренко и Павло Яненко еще сидели за столом. Вскочили, кинулись к думному дьяку. Он прохрипел Матвееву, наклонившемуся над ним:
— Вино… из бочки… афонское… не пей… то яд… — и повис мертво на руках у Матвеева.
Бутурлин побледнел. С тревогой оглядел стол. Из какой бочки только что угощались? Афонский бочонок стоял отдельно на подоконнике. Слава спасителю! Отлегло от сердца. Боярин перекрестился.
Лопухина уложили в постель. Золотаренко только глянул на желтое, искаженное лицо думного дьяка — сказал уверенно:
— Отрава.
— Иезуиты… — скрипнул зубами полковник Яненко. — Где эта бочка, боярин?
Бутурлин указал рукой на подоконник.
…Выходили Лариона Лопухина. Спасли дьяка. Выгнали из тела отраву. Мать Яноша наварила чугунок зелья. Девясил, чабрец, можжевельник и деревей, сваренные на липовом меду, сделали свое, вырвали из лап курносой думного дьяка.
Бледный и слабый, неверной, дрожащей рукой уже и Нежине, после присяги, которую принесли в соборе нежинцы на вечное подданство царю Московскому, Ларион Лопухин записал в посольские столбцы:
«А наипаче дивно то, что митрополит Сильвестр Коссов долго не соглашался присягу царю Московскому принести и повелел людям своим митрополичьим такожде присяги не приносить. И учинилось такое, что когда все киевляне присягу принесли, и тогда ближний боярин Василий Васильевич Бутурлин зело гневен был на митрополита и купно с гетманским полковником потребовал от него, дабы оный присягу принес. Только тогда митрополит Коссов сие учинил. По видимости, митрополит Коссов в добрых отношениях с духовенством Речи Посполитой и униатами. Полковник Яненко заверил послов царских, что о том гетман доподлинно знает и что в то самое время, когда паше посольство в Киеве пребывало, митрополит с одним иезуитом виделся втайне, И теперь того иезуита гетманская стража разыскивает, а в разе найдут его, тогда иная речь с митрополитом будет. А что меня, царского холопа, отравить задумали, то сбирались такое зло учинить со всеми послами великими, дабы гнев и немилость царскую на гетмана Хмельницкого накликать».
…В конце января с крыльца Киевского магистрата радца Евстратий Гулак читал киевлянам, собранным на майдан — с самого утра скликали на площадь бубнами, — гетманский универсал. В универсале говорилось, что всякому лицу, которое в Киев из других городов или краев чужеземных прибывает пешо или конно, надлежит в магистратскую ратушу явиться и объявить о себе; ежели такое лицо не явится и не объявится, как только в Киев прибудет, то, будучи обнаружено державцами гетманскими и казаками дозорной сотни, сразу будет отведено в замок для допроса и суда. А ежели местные люди такое лицо будут укрывать и, зная о нем, войту или бургомистру не скажут, то оных людей также надлежит доставить в замок и судить, согласно повелению гетманскому.
С крыльца ратуши тот же радца Евстратий Гулак прочитал другой гетманский универсал, в котором приказывалось всем цеховым работным людям — оружейникам, мечникам, селитроделам, ножовщикам и рудознатцам, — кои к киевским цехам приписаны были, а ныне в сотнях киевского полка стоят, из войска идти и в свои цехи вернуться, дабы делать оружие и все для оружия потребное для удовлетворения войсковых нужд гетманских. А буде кто из оных работных людей своею волею так не поступит, с того чинш брать и на прежнюю работу все равно возвращать.
Казак четвертой сотни Киевского полка Тимофей Чумак выслушал в своей сотне гетманский универсал об исключении из реестра цеховых работных людей. Помрачнел лицом, крепко сжал эфес сабли и задумался. Немного погодя спросил Чумак полкового писаря Волокушного:
— А саблю отдавать?
Писарь исподлобья мутно поглядел на Чумака, почесал затылок и развел руками:
— О том в универсале ясновельможного не отписано.
…Вечером того же дня Тимофей Чумак отправился на Подол, к своему земляку и давнему побратиму Федору Подопригоре, который, как сказывали, об эту пору был в Киеве.
Подопригору, после долгих расспросов, Тнмофей нашел над самым Днепром, в камышовом шалаше.
Как раз в это время Подопригора варил в закоптелом чугунке уху. Грел у костра задубевшие на морозе руки и, попыхивая трубкой с длинным чубуком, без особого удивления встретил Чумака, будто расстались они только вчера… А времени с их последней встречи уплыло немало.
— Садись, брат, — гостеприимно пригласил Подопригора, указывая место рядом с собой.
Чумак опустился на вытоптанную солому возле Подопригоры.
— А ты все такой же, — усмехнулся Чумак.
— Это паны меняются с виду — толстеют, краснеют, мордатыми становятся, а наш брат, сероштанник голопузый, всегда одинаков.
Подопригора захохотал и, быстро погасив смех, ехидно спросил:
— Что, навоевался? Из реестра, видать, попросили?
— А ты откуда знаешь?.. — удивился Чумак.
— Знаю. Я все, брат, знаю, — хвастливо заявил Подопригора.
— Гетман повелел работным людям назад в цехи возвращаться. Оружия много нужно, а кому его работать — нету…
— Что ж, оружие потребно, — заметил Подопригора, помешивая оловянной ложкой уху. — Без оружия шляхту не повоюешь.
С нескрываемым любопытством глядел Чумак на Подопригору. Опаленное ветрами и солнцем лицо, крылатый разлет черных бровей, кривой, перебитый некогда шляхетской саблей нос — все осталось неизменным за эти три года, что не видал он своего побратима.
— А ты нешто давно из войска? — спросил наконец Чумак.
Подопригора не ответил, кряхтя опустился на колени, добыл в углу шалаша из-под соломы выпуклую зеленую фляжку, протянул Тимофею.
— Угощайся, браток, разговейся…
Чумак охотно взял, отпил несколько добрых глотков и возвратил фляжку Подопригоре. Тот повертел ее в руке и вылил остаток горелки себе в глотку, засунул затем фляжку снова под солому и коротко объявил:
— Я из войска давно, еще после Берестечка.
— Вон как!
— А так.
— Что ж поделываешь?
— Живу как птаха. Видишь, какой роскошный палац себе построил? — Подопригора весело засмеялся, обводя заблестевшими глазами покрытые инеем стены шалаша. — Хоть и убогий палац, а дивчата в гости ходят… Любят меня!
— А паны?
— Паны — нет, — вроде бы с досадой признался Подопригора. — Паны нашего брата не жалуют. Что свои, что чужие.
Казаки молча хлебали уху.
От костра тянуло жарким духом, дым, который по-черному выползал из шалаша, едко щекотал глаза; набегали слезы, и не хотелось говорить.
Когда котелок опустел, Федор Подопригора, вытерев тыльпой стороной ладони губы, заговорил:
— Вот какие дела, Тимофей. Оно, конечно, шляхте польской на нашей земле теперь не сладко придется. Выгоним ее, Москва помощь даст, защитят нас русские братья, — уверенно проговорил он. — Но голоте сероштанной как быть дальше? Наша собственная шляхта оседлает. И сейчас уже мудрят. Хотят прибрать нас к рукам, обкорнать нашу волю. Был я в нашей Веремиевке, там такое творится, что и не сказать. Купец Гармаш, аспид многоглавый, рудню поставил, посполитых приписал к ней, — что хочет, то и делает. Люди с голоду пухнут… А я ему насолил, подбил людей на бунт, пришлось ему деньги заплатить им, а кабы не я, так и подыхали бы. Мать и сестра остались там, сердешные, вот о чем печаль… Твои родители тоже по тебе убиваются… Ждут, когда вернешься, может, лучше им будет…