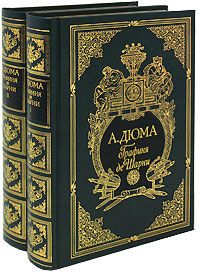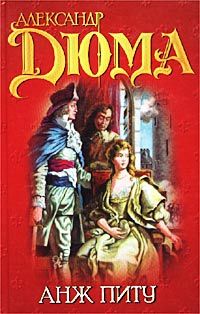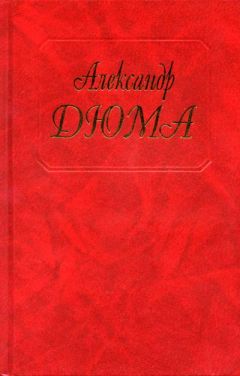Облик этого тщеславного существа менялся прямо на глазах: его глаза налились кровью; желтая кожа блестела от пота; чудовище было величественно в своем безобразии, как другой человек был бы величав в своей красоте.
— Однако я не трибун, — словно спохватившись, продолжал он, — у меня нет этих столь мне необходимых нескольких тысяч людей… Нет, но я — журналист… нет, но у меня есть письменный прибор, бумага, перья… нет, но у меня — подписчики, читатели, для которых я — оракул, пророк, прорицатель… У меня есть народ, которому я — друг, которого я веду от предательства к предательству, от открытия к открытию, от отвращения к отвращению… В первом номере «Друга народа» я разоблачал аристократов, я говорил, что во Франции было шестьсот виновных и что для них будет достаточно шестисот веревок… Ха, ха, ха! Месяц назад я немного ошибался! События пятого и шестого октября меня просветили… Теперь я понимаю, что не шестьсот виновных заслуживают суда, а десять, двадцать тысяч аристократов достойны виселицы.
Жильбер улыбался. Ему казалось, что такая злоба граничит с безумием.
— Примите во внимание, — заметил он, — что во Франции не хватит пеньки на то, что вы задумали, а веревка станет дороже золота.
— Я думаю, что для этого скоро будет найден новый, более надежный способ… — отвечал Марат. — Знаете ли, кого я жду к себе нынче вечером и кто минут через десять постучит вот в эту дверь?
— Нет, сударь.
— Я ожидаю одного нашего собрата… члена Национального собрания, вам должно быть знакомо его имя: гражданин Гильотен…
— Да, — отвечал Жильбер, — это тот самый господин, что предложил депутатам собраться в Зале для игры в мяч, когда их выдворили из зала заседаний… очень хитрый господин…
— Знаете ли, что недавно изобрел этот гражданин Гильотен?.. Он изобрел чудесную машину, которая лишает жизни, не причиняя боли, — ведь смерть должна быть наказанием, а не страданием, — и вот он изобрел такую машину, и в ближайшие дни мы ее испытаем.
Жильбер вздрогнул. Уже второй раз этот человек напомнил ему Калиостро. Он был уверен, что именно об этой машине и говорил ему граф.
— Слышите? — воскликнул Марат. — Вот как раз стучат, это он… Поди отопри, Альбертина!
Жена, вернее, сожительница Марата, поднялась со скамеечки, на которой она, скрючившись, дремала, и, еще окончательно не проснувшись, медленно, пошатываясь, пошла к двери.
А подавленный Жильбер почувствовал, что вот-вот упадет; он инстинктивно двинулся к Себастьену, намереваясь взять его на руки и унести домой.
— Вы только поглядите! Поглядите! — восторженно прокричал Марат. — Эта машина работает без посторонней помощи! Для ее обслуживания нужен всего один человек! Стоит трижды сменить лезвие, и можно будет отрубать в день по триста голов!
— К этому еще прибавьте то, — раздался за спиной Марата тихий вкрадчивый голос, — что она может отрубить эти головы совершенно безболезненно: приговоренный к смерти успевает ощутить лишь холодок на шее.
— А-а, это вы, доктор! — вскричал Марат, оборачиваясь к маленькому человечку лет сорока пяти; его изящный костюм и изысканные манеры до странности не гармонировали с внешним видом Марата; он держал в руках небольшую коробку, формой и размерами напоминавшую те, в каких бывают детские игрушки.
— Что это у вас? — спросил Марат.
— Модель моей знаменитой машины, дорогой Марат… Если не ошибаюсь, — вглядываясь в темноту, прибавил вновь прибывший, — это доктор Жильбер, не так ли?
— Он самый, сударь, — с поклоном отвечал Жильбер.
— Очень рад, сударь! Вы нам, разумеется, ничуть не помешаете; напротив, я буду счастлив услышать мнение столь выдающегося человека о моем детище. Надобно вам заметить, дорогой Марат, что я нашел отличного плотника по имени Гидон, он и делает мне машину в натуральную величину… Это дорого! Он требует у меня пять с половиной тысяч франков! Впрочем, мне ничего не жалко для блага человечества… Через два месяца она будет готова, и мы сможем испытать ее, а после этого я предложу ее вниманию Национального собрания. Надеюсь, вы поддержите мое предложение в своей замечательной газете, господин Марат, хотя, по правде говоря, моя машина говорит сама за себя, господин Жильбер, в чем вы сию минуту убедитесь сами. Но несколько строк в «Друге народа» не помешают.
— О, будьте покойны! Я посвящу ей целый номер!
— Вы очень добры, дорогой Марат; но, как говорится, я не хочу продавать вам кота в мешке.
И он достал из кармана другую коробочку, вчетверо меньше первой; из нее донесся шум, свидетельствовавший о том, что в коробке сидит какое-то животное, вернее, несколько животных, очень недовольных тем, что их держат взаперти.
Марат услышал этот шум.
— Ого! Что это у вас там? — спросил он.
— Сейчас увидите, — отвечал доктор.
Марат протянул руку к коробочке.
— Осторожно! — поспешил предупредить его Гильотен. — Не упустите их, мы не сможем их поймать; это мечи, которым мы будем рубить головы… Что это, доктор Жильбер?.. Вы нас покидаете?..
— Увы, да, сударь, — отвечал Жильбер, — к моему великому сожалению! Мой сын нынче вечером попал под лошадь; доктор Марат подобрал его на мостовой, пустил ему кровь и наложил повязку; он и мне однажды спас жизнь при подобных обстоятельствах. Я еще раз приношу вам свою благодарность, господин Марат. Мальчику необходимы свежая постель, отдых, уход — вот почему я не могу присутствовать при вашем любопытном опыте.
— Но вы ведь будете зрителем через два месяца, когда машина будет готова, не так ли? Обещаете, доктор?
— Обещаю, сударь.
— Ловлю вас на слове, слышите?
— Я сдержу свое слово.
— Доктор, — молвил Марат, — мне ведь не нужно просить вас сохранять в тайне мое местопребывание, правда?
— О, сударь…
— Видите ли, если ваш друг Лафайет узнает, где я прячусь, он прикажет меня пристрелить, как собаку, или повесить, как вора.
— Пристрелить! Повесить! — вскричал Гильотен. — Скоро мы покончим с этим варварством. Скоро мы сможем предложить смерть легкую, тихую, мгновенную! Это будет такая смерть, что уставшие от жизни старики, пожелавшие покончить с ней, как философы и мудрецы, предпочтут ее естественной смерти! Идите сюда, доктор Марат, посмотрите!
Позабыв о докторе Жильбере, Гильотен раскрыл первую коробку и стал устанавливать свою машину у Марата на столе, а тот не сводил с нее любопытных глаз.
Воспользовавшись тем, что они занялись машиной, Жильбер поспешно поднял спящего Себастьена на руки и пошел по лестнице; Альбертина проводила его и тщательно заперла за ним дверь.
Очутившись на улице, он понял по пробежавшему по его лицу холодку, что обливается потом.
— О Боже! — прошептал он. — Что станется с этим городом, если в его подвалах скрываются в настоящую минуту хотя бы пятьсот таких вот филантропов, занятых делом, подобным тому, свидетелем которого я только что был; а ведь наступит день, когда они выползут на свет?!.
От улицы Сурдьер до дома Жильбера на улице Сент-Оноре было недалеко.
Дом его был расположен чуть дальше собора Успенья, напротив мастерской столяра по имени Дюпле.
Ночная прохлада и движение разбудили Себастьена. Он хотел было встать на ноги, однако отец воспротивился и продолжал нести его на руках.
Подойдя к двери своего дома, Жильбер на минутку опустил Себастьена на ноги и что было мочи забарабанил в дверь, чтобы поскорее разбудить привратника и не заставлять Себастьена ждать на улице.
По другую сторону двери вскоре послышались тяжелые, но торопливые шаги.
— Это вы, господин Жильбер? — раздался чей-то голос.
— Ба! Это голос Питу, — заметил Себастьен.
— Слава Богу! — вскричал Питу, отворяя Дверь. — Себастьен нашелся!
Он повернулся в сторону лестницы; там вдалеке горела свеча.
— Господин Бийо! Господин Бийо! — закричал Питу. — Себастьен нашелся! Цел и невредим, я надеюсь; правда, доктор?
— Ничего опасного, во всяком случае, — отвечал доктор. — Иди, Себастьен, иди сюда!
Поручив Питу запереть дверь, он опять поднял мальчика на руки и на глазах изумленного привратника, появившегося на пороге своей каморки в ночном колпаке и рубашке, стал подниматься по лестнице.
Бийо пошел впереди, освещая дорогу; Питу замыкал шествие.
Доктор жил на третьем этаже; широко распахнутые двери свидетельствовали о том, что его ждали. Он уложил Себастьена в постель.
Питу был обеспокоен и не отступал от них ни на шаг. Судя по грязи, облепившей его башмаки, чулки и штаны и забрызгавшей куртку, было нетрудно догадаться, что у него за плечами долгая дорога.
Проводив заплаканную Катрин домой и услышав из уст самой девушки, слишком глубоко потрясенной, чтобы скрывать свое горе, что причиной ее состояния послужил отъезд Изидора де Шарни в Париж, Питу, вдвойне переживавший за Катрин, и как влюбленный и как друг, оставил ее на попечении рыдавшей мамаши Бийо и не спеша зашагал в Арамон, постоянно оглядываясь на ферму, которую он оставлял с тяжелым сердцем, страдая и за Катрин, и за себя самого. Вот почему он пришел в Арамон лишь на рассвете.