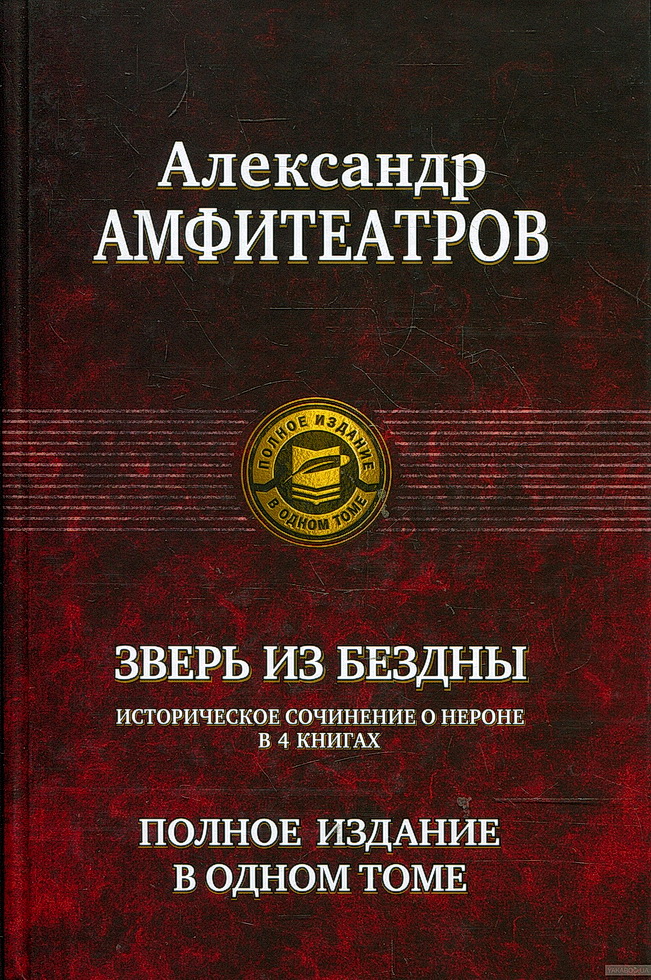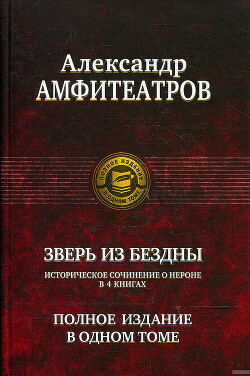Диана, царица лесная,
О, лучезарные светочи неба, внемлите.
Чтимые ныне и вечно! о чем мы вас молим, взывая,
Нам ниспошлите.
Ныне велят предсказанья Сивиллы —
Избранным девам и отрокам чистым смиренно
Гимном всевышних, кому семь холмов наших милы,
Петь вдохновенно.
Солнце благое! приводишь-уводишь
Ты с колесницей блестящею дни, возрождаяся снова
И неизменное вечно, о пусть ты славней не находишь
Рима родного!
О, Илифия! рождать без болезней
Ты матерям помогаешь своею заботой немалой.
Хочешь ли зваться в молитвах Люциною или любезней
Слыть Гениталой?
Юных взрасти под родимым покровом,
Благослови, о богиня, сенаторов думных решенье,
Пусть оно с брачным законом еще поколениям новым
Даст приращенье,
Чтобы, как в годы минувшие, вечно
Каждых сто лет песнопенья и игры звучали,
Чтобы три солнечных дня, три отрадные ночи беспечно
Все ликовали.
О, непреложные Парки, внимайте,
Ваши незыблемы речи в стремлении мимобегущем;
Ваши для нас повеленья свершились, отныне подайте
Счастья в грядущем.
Долы, обильные стадом и нивой,
Пусть из колосьев сплетают Церере венок ароматный,
Пусть посылает Юпитер плодам ветерок шаловливый,
Дождь благодатный.
Спрячь, Аполлон, свои стрелы в колчане.
Внемли, и кроткий, и благостный, отроков чистых напевам.
Внемли, Луна, о, царица двурогая в звездной поляне,
Славящим девам.
Если вы создали Рим, — повелели,
Чтобы на берег этрусский приплыли троянцы толпою —
Те, что, по воле богов, для далекой оставили цели
Домы и Трою;
Те, кому в пламени Трои пылавшей,
Правил Эней безупречный, отчизну свою переживший,
Пусть по свободной стихии, иную судьбу прозревавший,
Лучшую бывшей; —
Боги, вы юношам — добрые нравы,
Боги, вы старости ясной покой безмятежный пошлите,
Ромула внукам — потомства, и мощь, и сияние славы
Вечно дарите.
Дайте тому, кто, грозящих смиряя,
К слабому милостив, славный потоком Анхиза с Венерой,
Все, что он просит в молитве, здесь белых быков закалая,
С искренней верой.
Вот уж в морях и на суше хвастливый
Парфянин грозной десницы и римской секиры страшится,
Все исполнять повеленья индиец и скиф горделивый
В страхе стремится.
Вот уж и верность, и мир перед нами,
Честность, стыдливость былая, забытая доблесть дерзает
К нам возвратиться обратно, и рог изобилья плодами
Нас осыпает.
Если, украшенный блещущим луком,
Феб, прорицатель не ложный и муз десяти вдохновитель,
Лирой своею искусной телесным недугам и мукам
Добрый целитель,
Если он узрит теперь, благосклонный,
Здесь алтари Палатина, — он Рима могучее счастье
И благоденствие наше продлит до поры отдаленной,
Полный участья.
С ним и Диана — царица благая
На Авентине, Алгиде — пятнадцать мужей предстоящих
Примет, детей не оставит, внимательный слух преклоняя,
Песнь возносящих.
Мирно домой возвращаюся ясный,
С верою, что и Юпитер, и боги прияли моленье,
Где и Диане, и Фебу вознес ныне хор наш согласный
Славу хваленья.
(Перевод П.Ф. Порфирова).
Ферреро справедливо замечает, что даже и сейчас, две тысячи лет спустя, редкий итальянский юноша читает Carmen Saeculare без волнения, — по крайней мере, этот страстный вопль его:
— Благое Солнце! На блестящей колеснице своей ты привозишь и вновь скрываешь смену дней, всегда ты другое родишься и всегда ты останешься одно и то же. О, если бы ты никогда не узрело никакого другого величия выше города Рима!
Громадная удача игр Августа не могла не быть завидной его преемникам. Тиберий и Кай Цезарь чувствовали себя еще слишком близким к их памяти и не посягали на это предание. Но Клавдий, педант и археолог, не мог пропустить упавшей на его правление восьмисотлетней годовщины основания Рима без соблазна воскресить величайшее государственное торжество. Притом же, ему хотелось приурочить к 800-летию Рима 550-летний юбилей своего фамильного родословия. И вот — хотя после секулярных игр Августа прошло всего 63 года — Клавдий объявил новые игры. Мотивом было, что Август-де ошибся в хронологии и отпраздновал игры свои неправильно, а доказательством тому, вероятно, выставлялась круглая цифра восемьсот, делимая на сто без остатка, тогда как 737 не годится в делимые ни для ста, ни для ста десяти, ни для естественного века этрусского, ни для гражданского века римского. Опору себе Клавдий, кропотливый археолог, мог найти в том соображении, что хотя Рим принял этрусское векоисчисление чуть не в доисторические времена, оно, все-таки, представляло собой заимствованное чужеземное новшество, а еще древнейший, исконный и подлинный, римский век был столетний, слагавшийся из ста годов в 365 дней. В десятичной круглости столетнего века общество, конечно, чувствовало себя гораздо удобнее, чем в угловатой одиннадцатикратности века священного. Словом, Клавдий мог отпраздновать свои игры только через подмен Сибиллина векоисчисления гражданским. У другого государя фокус этот, может быть, вышел бы чисто и ко благу, но Клавдий, по глупости и упрямству в археологическом педантизме, только лишний раз обратил себя во всенародное посмешище. Притом же, в обществе хорошо помнили, что совсем не так давно Клавдий, отменяющий хронологию Августа, издал специальное сочинение в защиту и доказательство правильности ныне отвергаемой хронологии этой. Бирючей Клавдия, приглашавших народ к праздникам, «которых никто из вас не видал и никто не увидит», встречали по городам хохотом, потому что всюду натыкались они на стариков, отлично помнивших Августовы игры. Праздник обставлен был с богатейшей щедростью и роскошью. Средства последней, конечно, значительно пошли вперед со временем Августа: зрелищные сооружения, которые тогда были деревянные или кирпичные, теперь сияли мраморами и т.п. Но и в театре судьба пошутила-таки над Клавдием. Играли все артистические звезды Рима и, между ними, престарелый актер Стефанион. При его выходе в театре грянул гомерический хохот: публика вспомнила, что знаменитый старик играл — юношей — и на секулярном празднике Августа! Известный придворный дипломат и величайший палатинский мошенник, Л. Вителлий, отец будущего императора А. Вителлия, поздравил Клавдия со столетними играми пожеланием: справляй почаще! Эта фраза считается, обыкновенно, верхом бесстыжей лести, но, собственно говоря, при обстоятельствах, в которых она была преподнесена, человек, менее самообольщенный, чем Клавдий, имел бы право принять ее за весьма дерзкую двусмысленность. Впоследствии игры Клавдия, кажется, были признаны справленными произвольно и незаконно, а потому недействительными. По крайней мере их