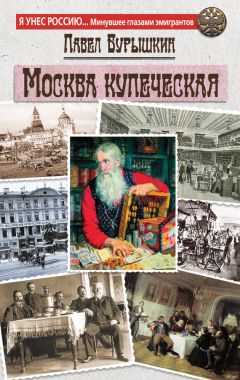«И то — строительство, считай, в триста тысяч рублей обошлось, — вспомнил он смету. — Деньги немалые. Приятно, что люди ценят».
Посмотрев на часы, он аккуратно сложил газеты, надел пальто, вышел на Спиридоновку, дошел до бульвара, а оттуда- до памятника Пушкину. Уже издали заметив нетерпеливо расхаживающую взад-вперед Марию Федоровну, ускорил шаг.
— Простите, не думал я, что позже вас приду, — сказал он, целуя ее руку в тонкой перчатке, — хоть вроде и не опоздал, — взглянул на часы. — Газетами зачитался.
— Газетами? Вы ж не большой любитель газет. О чем пишут?
— Хвалят… — уклончиво сказал он. — Вас и театр, — пояснил, заметив вопросительный взгляд Марии Федоровны.
— Хорошо, если хвалят, — к удивлению Морозова почти равнодушно проронила она. — Присядем или пройдемся?
— Пройдемся. Насиделся.
Андреева взяла Савву под руку, и они неспешно пошли по бульвару. Схваченные первым ранним морозцем почерневшие листья похрустывали под ногами.
— А насчет газет — вы не правы, — сказал Морозов. — Я не газеты не люблю, а цинизм некоторых писак, которые не о деле, а о себе пишут, чтобы замеченными быть. А ведь цинизм-то свой показывать — глупо. Цинизм человека с головой выдает.
— Да ведь, думается мне, циники — часто люди очень умные, и таковыми именно от ума становятся. Нет? — Андреева приподняла меховой воротник пальто.
— Холодно?
— Нет. Просто с поднятым воротником поуютнее.
— Наличие большого ума, Марья Федоровна, не всегда сопровождается наличием большого таланта. По мне, циники — это как раз те, у кого достаточно ума понять, что талантом их Господь не наградил — потому и маются, цинизмом своим прикрываются, да людей талантливых и дела их словесной грязью поливают. Им так легче живется. Так что, как циника встретите, Марья Федоровна, сразу слова мои припомните и пожалейте его бедолагу. Он на вас — грязь, а вы его жалейте, потому что у вас талант есть, а у него — один цинизм. Что-то у вас под глазами тени легли? — заглянул он в лицо Андреевой. — Неможется? Или опять ваши политические дела?
— Дела, дела… — задумчиво сказала та. — Мне, Савва Тимофеевич, снова нужна ваша помощь.
— Опять спасаем кого-нибудь? — добродушно усмехнулся он, накрыв ладонью ее руку у себя на локте.
— Во-первых, — сделала Андреева вид, что не заметила иронии в его словах, — надо бы наладить регулярное пожертвование политическому Красному Кресту на устройство побегов из ссылки, на закупку литературы для местных партийных организаций и в помощь отдельным лицам.
Савва приостановился, достал из портсигара папиросу и, прикрывая зажженную спичку ладонями, начал прикуривать.
— Во — вторых, — покосилась она на Морозова, сосредоточившегося на попытках встать спиной к ветру так, чтобы спичка не погасла. — Да вы слышите ли меня?
— Слышу, слышу, — затянулся он папиросой. — Жду «во-вторых».
— Савва! Ты ведь понимаешь… — перешла она на «ты», обеспокоенная недостаточным вниманием к теме, как делала всегда, когда хотела напомнить об особом характере их отношений, либо важности и конфиденциальности вопроса. Эти перескакивания от «ты» к «вы» и наоборот были некой игрой, когда, делая шаг вперед, она оставляла возможность отойти назад и восстановить дистанцию. Сейчас нужен был шаг вперед.
— … что в данный момент на первое место выходит издание нашей газеты. Это — жизненно важно для нас! — Все еще сомневаясь, понимает ли Морозов серьезность разговора, она зашла вперед и остановилась, преградив ему путь.
— Нам нужно… — Она почти прикоснулась губами к уху Морозова.
— Ну и аппетиты у вас! — покачал тот головой. — Это всего?
— В год, Савва, — пояснила она, продолжая стоять лицом к лицу с Морозовым, и ласково глядя ему в глаза, а тот, попыхивая папиросой, разглядывал ее с удовольствием, потому как Мария Федоровна была очень хороша сейчас — взволнованная, с легким румянцем на щеках.
— Вы, Марья Федоровна, так смотрите, будто хотите мне на грудь броситься, как давеча при всем народе в театре — к Горькому, — не удержался Савва, отметив легкую растерянность, а затем и недовольство на ее лице. — Что ж, Алексей Максимович, конечно, хороший человек,… достойный дружеских объятий и поцелуев. — Он обошел Андрееву и направился к скамейке.
— Да для меня он не человек даже! — воскликнула она.
Савва удивленно обернулся.
Андреева запнулась, подбирая достойное завершение начатой фразе, которое, как она мгновенно сообразила, могла оказать сильное влияние на окончание важного разговора.
— Не человек, а великий человек, почти Бог! — с пафосом воскликнула она.
Морозов бросил на нее изумленный взгляд.
— Присядем, Савва… Тимофеевич? — просто на всякий случай увеличивая дистанцию, она снова перешла на «вы».
— Бог, говоришь? — усмехнулся Морозов, садясь рядом на холодную скамью. — Ты, Маша, — шаг вперед сделал Савва, и это немного успокоило Андрееву, — прямо, как Ницше. Это у него великий человек подобен Богу. А мне так Байрон ближе.
— А что Байрон? — сдерживая легкое раздражение от слишком медленного движения к цели, изобразила заинтересованность Андреева.
— По Байрону великий человек — это титан, воюющий сам с собой.
Разговор все время поворачивал не в то русло, и это не нравилось Марии Федоровне. Она подобрала прутик, лежащий у скамейки и, обломав тонкие веточки, наклонилась и принялась что-то писать на земле. Савва смотрел с интересом.
— Ничего не выходит — отбросила она прутик. — Земля подмерзла. Так что, Савва Тимофеевич, поможешь?
— А я когда тебе не помогал? — рассмеялся он.
— Вот и чудесно — облегченно чмокнула она Савву в щеку. — Вот и славно Я тогда Алексею Максимовичу скажу, чтобы он с тобой детали оговорил. Вы ведь увидитесь?
— Алеша почти каждый вечер у меня. Иногда даже ночует. Говорит, книгу новую хочет писать. Все меня про быт купеческий выспрашивает, про родню. Какие привычки, что за взгляды, что едим, что пьем, каких женщин любим…
— Ну, и «каких женщин любим»? — оживилась Андреева.
Савва таинственно улыбнулся.
— Ну, так каких же?.
— А уж это, кто каких! Кому спичка подходит, а кому — фейерверка мало, подавай вулкан, — рассмеялся он, с любовью глядя на Андрееву.
Та скромно опустила глаза.
— Пожалуй, надо Алексею уже окончательно из Нижнего в Москву перебираться, — сказал Савва, бросив испытующий взгляд на Марию Федоровну.
— Холодно. Пойдем, — словно не услышав его слов, она поднялась со скамейки. — У меня репетиция через полчаса. Если опоздаю, опять Немирович ворчать будет.
— Как в театре? Полегче? — Савва вышел на край проезжей части и махнул рукой стоящему неподалеку извозчику.
— Тяжело, — покачала она головой. — Тяжело. Если бы не ты, не знаю, как играла бы, и кого играла. Но все одно — самые лучшие роли Книппер достаются.[22] Знаешь, что я недавно случайно услыхала?
— Куда ехать прикажете, барин? — прервал их подъехавший извозчик, закутанный в видавший виды овчинный тулуп.
— Недалеко, подожди, — отмахнулся Морозов. — Так что слышала-то?
— Станиславский Немировичу говорил в коридоре, а я за дверью стояла, ботинок шнуровала, что «Андреева — актриса полезная, а Книппер — до зарезу необходимая».
— Костя? — нахмурился Савва.
Мария Федоровна кивнула.
— Право, так это несправедливо, так больно. Я в тот вечер дома металась, как угорелая, состояние духа было такое ужасное, — на глаза у нее навернулись слезы. — А Книппер… на днях на самом видном месте письмо раскрытое оставила…
Савва поморщился.
— Я понимаю, Савва, что дурно заглядывать в чужие письма, но оно так лежало… специально, на виду. И там она пишет Чехову, что Немирович в одной из бесед неосторожно выразился, что надо меня «вытравить из театра». И еще — пишет ему, что мол она с Немировичем согласна во всем, что связано с репертуарной политикой. Пишет, что Горький-Горьким, но слишком много «горькиады» — вредно!
— Что ж мне раньше не сказала? — сердито спросил Савва и полез в карман за портсигаром.
Извозчик многозначительно покашлял.
— Стой, жди. Не обижу, — бросил ему Савва.
Андреева вздохнула:
— Не решилась тревожить, — необычно тоненьким голоском жалобно сказала она. — И потом, ты иногда уж очень важный господин, я на тебя смотрю и потрухиваю очень.
— А мнение зрителей их не волнует? А цветы, которыми тебя осыпают после каждого спектакля? — Савва взял в рот папиросу и попытался зажечь спичку, но та сломалась. — Не нравится мне это То, что Немирович роняет себя в моих глазах буквально каждый день, так к этому я уже привык. Но вот Костя… — снова чиркнул спичкой и снова сломал. — Ну, не грустите, дорогая Мария Федоровна! В обиду я вас не дам. Не для того такой театральный храм отстроил, чтобы главную богиню в этом храме унижали.