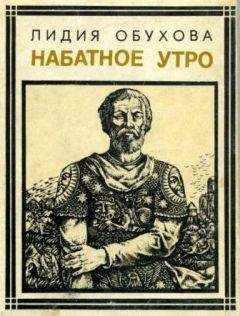— Как же так?! Кто тебя похолопил? За что? Погодь, я князю скажу...
— А что князь? Сам я с семьей в холопство подался. Не стало мочи тиунам да мытникам поборы платить. Посуди: по гривне с сохи князьям давай? В пользу тиуна и тысяцкого с той же сохи поралье вноси? Повозную повинность — подводу и корма — исполняй? Не забудь еще и монастырскую долю. Ныне, знаешь, как наряжают на работу: двор игумену огораживать, сообща пахать, сеять, косить и на монастырский двор отвозить, монастырские сады обряжать, пруды прудить... Городовое дело тоже на мне: знай успевай, строй да чини! А свою пашню, выходит, бросить? Ох, где смолоду прорешка, под старость дыра...
Онфим, понурясь, слушал горестную повесть боевого товарища.
— За что ему бедствие? — с обидой сказал он князю. — Неужто не спасем, не выкупим его? Такой добрый пешец был. Сам небось помнишь: кистенем, как цепом, свеев молотил!
— Всю Русь не выкупишь, — жестко ответил Александр Ярославич, слегка отворачивая лицо от Онфимовой укоризны. — Не мне против мытников и тиунов идти. Ими казна пополняется. Жаль Третьяка. Снеси ему серебряную запону с моего кафтана за старую службу.
Насупившись, Онфим сел в седло, пнул Нецветая под крутой бок: «у, возгривая рожа». Конек был уже староват, да тут недалече, прыти хватит. А воротившись, застал в княжеском покое седобородого, со лбом, иссеченным бороздами, — будто земля от долгой засухи — Якова-полочанина, которого звал дядей. Так породнился с ним со времени Невской битвы.
Когда Онфим переступил порог, окованный для прочности медной пластиной, долгий разговор князя со своим ратным слугой, видимо, подошел к концу.
— Без охоты отпускаю тебя, Яков, — сказал Александр Ярославич. — Знать, мое дело к зиме, ежели, как с дерева листы, отпадают от меня верные души.
— Моя душа всегда с тобою, — отозвался ловчий. — Поздно дано человеку отрыть жемчужное зерно. Глубоко оно лежит под ежедневной маетой. Еще с тех лет, когда мальцом постигал грамоту при Софии Полоцкой, любопытно стало мне собирать книги. В мирской жизни нет досуга. Да и меч мой много для тебя поработал. Отпусти теперь без обиды за монастырскую стену для письменного труда, Александр Ярославич. А настанет крайность — от чего оборони бог! — скину скуфейку, перепояшусь мечом, постою еще за Русь.
— Не оставляй меня советом, Яков, — сказал князь с той простотой, которая поворачивала к нему сердца. — Русь в обиду не дам. Будь покоен. Прими на дорогу мой крест нательный.
Яков-полочанин распахнул ворот, оборвал завязку.
— А ты мой. Он охранит тебя, как я не раз заслонял грудью.
Онфим стоял в сторонке, понимая, что негоже даже громким вздохом нарушить торжественность прощания.
Сам он неотлучно находился при князе, но прежних доверительных отношений между ними уже не было. С годами душа Онфима грубела, уходила прежняя гибкость.
— Что нужно для здравия? — твердил он беззаботно. — Крепкий морозец поутру да ржаной ломоть с моченым яблоком на заедку!
Возможно, князь сам перестал нуждаться в дружеской короткости. Они жили рядом молча, по-прежнему полагаясь друг на друга во всем, что касалось жизни и смерти. В том кровавом изворотливом времени люди едва успевали следить за поверхностью событий, ловчили не оступиться, не пасть на обочине трупом. Где уж было разглядеть глубь!
Смолоду очень любивший своих семейных, Александр Ярославич с годами все реже принимал в расчет узы крови, захваченный одной мыслью. Прожив половину жизни под постоянной угрозой, он понял, что не иметь ни дня покоя для державы — значит замереть на месте, не двигаться вперед. Избегая стычек с Ордой, он приближал время, когда перевес будет у Руси. Ведь и с рыцарями сражался не бездумно: то был дальновидный способ заставить с собою считаться.
Желаннее всего был ему мир с обеих сторон. Урядив оружием дела с тремя западными соседями — шведами, немцами, литвой, — Александр Ярославич обратился к четвертому — Норвегии. Что из того, что она далека от Новгорода? Каракорум еще дальше. Граница шла по Кольскому полуострову, называемому Тре. Карелы и норвежцы, сборщики дани, постоянно сталкивались на земле лопарей. Чтобы потушить спор в самом начале, снарядили посольство. Главе его, ладожскому посаднику Михаилу Федоровичу, было наказано посватать принцессу Кристину для княжича Василия.
Договор с мурманами установили надежно, но отпускать дочь в немирную от татар землю король Хоккан Старый не спешил. Михаил Федорович рассказывал с усмешкой, как королевну вывели в прабабушкином парадном платье с такими узкими рукавами, что их всякий раз отпарывали, натягивали особо, а затем пришивали на девице, потому что застежек на платье не было.
— Так пошлем ей в подарок сотню пуговиц, — сказал развеселившийся князь. — Нынче же прикажу дворскому приготовить всяческих: и золотых, и серебряных, и жемчужных, грановитых из цветных каменьев, сетчатых, сканых...
Кроме старших княжичей, Василия и Дмитрия, дети были еще малы, но отец задумывался об их судьбе: чему учить сыновей, за кого выдать со временем дочку Дуню?
Александр Ярославич искал продолжателей, помощников. Хотя и знал, что сможет передать из рук в руки только знания. Стол великого княжения будет, как и раньше, переходить от одного к другому, оспариваться во вражде.
«А что бы нужнее посреди передряг, чем дружный круг родни?» — думал Александр Ярославич. Возвращаясь с сыном Василием из вечно бунтующего Новгорода, он свернул к Ростову, к княгине Марье, вдове славного Василька Константиновича, двоюродного брата, погибшего в битве с татарами на Сити.
Великий князь был измучен и нездоров. Обижали попреки новгородцев: Александр-де заодно с татарами-сыроядцами. Своею рукой гнуть под ярмо город, где вскормлен, легко ли? Но он знал: Русь надо удержать и от отчаяния перед Ордой, и от опасного самохвальства.
Ростов славился иконой богоматери кисти печерского монаха Алимпия. В усталой задумчивости стоял перед нею великий князь. Был мил ему и сам город и епископ Кирилл, на всех изливавший безразборную доброту: даже поганых восточных купцов-бесерменов прятал на своем подворье от ярости бунтующего люда. В глухую ночь отворил потайную калитку в городской стене: «Ступайте. Думайте о грехах своих. А с Русью вас бог рассудит». К нему же привезли бежавшего из Орды татарского царевича, опасного гостя. Добрый старик со слезами умиления обнял новокрещенца Петра: «Русь тебя укроет, чадо. Живи. Христос с тобой».
В юности Александр Ярославич завидовал ростовскому Васильку Константиновичу — того все любили! С грустной лаской смотрел он на его выросших сыновей; иногда они казались ему ближе и любезнее собственных...
Молодой Борис Ростовский успешно учился у Невского сдержанности и хитроумию. Он глубоко затаил ненависть к ордынцам и смотрел на них непредубежденно. Приобретая их дружество, уже и на коня садился по-татарски, и по дому расхаживал не в льняной рубахе, а в цветном халате. Чужеродными словечками щеголял со столь тонким оттенком передразнивания, что это проходило незамеченным. По-кипчакски он говорил свободно, понимал еще с полдесятка наречий. Состязаться с ним мог только Онфим, которого татары неизменно провожали одобрительным взглядом: «берикиля», молодец.
Тою же тревожной зимой 1256 года в Сарае хан Сартак неосторожно оскорбил дядю Берке и был удавлен им. На Батыев трон посадили ненадолго младенца Улагчи, Сартакова сына. Но все дела вершил Берке.
Племянник Борис с досадой сказал, что вот, мол, опять на пустом месте начинать, применяться к новому хану. Невский покачал головой.
— Русь им всем одинаково надобна.
— Чтобы терзать ее! — вскричал сын Василий.
Морщины на суровом лице отца стали еще каменней.
— Как подпора! Против великого кагана Менгу с сыном Хубилаем и против Хулагу, удачливого завоевателя Персии. Против всех врагов-родичей.
— Но нам-то татарове поганые не опора, — настаивал Василий. Было ему семнадцать годков. Пылок, неустойчив.
— Толковать так прилично лишь в торговом ряду, — оборвал отец. — Ныне они сильнее. Станем — мы.
— Когда же, батюшка? — стихая, проронил сын.
Зажигался он и гаснул быстро: будто не его чадо, а братца Андрея. Борис умно помалкивал. Лишь когда великий князь сказал, что пора научаться, воюя за меньшее, не попирать великое, у него вырвалось:
— Учение-то из-под палки!
— А медом по устам никого не учат, сыновец, — живо отозвался Невский и вперил пристальный взор. Не родственный, не согретый шуткой и симпатией, а отстраненный и оценивающий: не ошибся ли он в нем, Борисе?
Молодой ростовский князь выдержал поединок глаз.
— Готов хоть под конской плетью научаться, князь-дядя, ежели от того станет польза Руси.
Александр Ярославич враз просветлел от разумных слов.