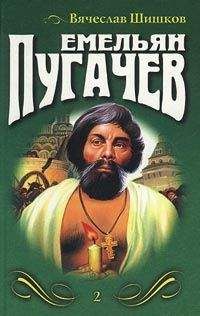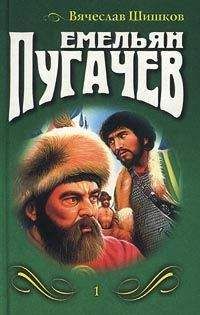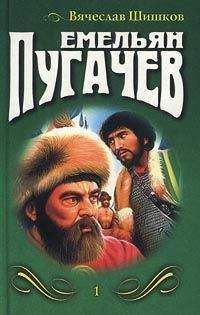И снова — уже который раз — в правительственном лагере неразбериха, толчея, перетасовка отрядов.
Князь Щербатов из Оренбурга отправил башкирцам увещание; он, подобно Михельсону, обещал полное прощение всем бунтарям, кои оставят самозванца и придут в повиновение правительству. В ответ на это башкирцы призадумались.
Они собирались на совещание, и наиболее робкие из них стали высказывать желание покориться.
Но вот появились посланцы Пугачёва, они привезли с собой башкирца, изуродованного комендантом Карагайской крепости полковником Фоком.
Пойманному пленнику Фок приказал отрезать нос, уши и на правой руке все пальцы.
— Вот, братья башкирцы, присмотритесь к своему сородичу! — бросал в толпу новый Пугачёвский повытчик Григорий Туманов.
Изувеченный, с непомерной печалью в глазах, показывал окружившим его беспалую, еще плохо поджившую культяпку, стараясь левой ладонью стыдливо укрыть страшное, как у Хлопуши, лицо свое. Он ничего не говорил и не обливался слезами, но небритый, в черной щетине, подбородок его дрожал, и широкая грудь надсадно дышала.
Чернобородый, приземистый Григорий Туманов, окинув большими глазами толпу, достал из сумки бумажку, вздернул вверх голову и вновь заговорил:
— А вот прислушайтесь, братья башкирцы, что пишет змей Ступишин, комендант Верхне-Яицкой дистанции…
«Башкирцы! Я знаю все, что вы замышляете. Ежели до меня дойдет хоть какой слух, что вы, воры и шельмы, ждете к себе вора Емельку Пугачёва, величающего себя царем, и всей его сволочи корм, и скот, и стрелы с оружием припасаете, я пойду на вас с пушками, тогда не ждите от меня пощады: буду вас казнить, буду вешать за ноги и за ребра, дома ваши, хлеб и сено подожгу, а скот истреблю. Слышите ли? Если слышите, то бойтесь!».
Рядом с Тумановым сидел на коне толмач Идорка. Он резким голосом переводил прочитанное и в крепких местах угрожающе потрясал плеткой. Толпа башкирцев шумела.
«Возле Верхне-Яицкой, — продолжал Туманов, — я, комендант Ступишин, поймал башкирца Мусина с воровскими от разбойника Пугачёва письмами.
Письма я велел принародно под барабанный бой сжечь, а тому вору-башкирцу приказал отрезать нос, уши и к вам, ворам, с сим листом, от меня посылаю!..»
Толпа в ответ шумела еще громче.
— Не с вами ли оный Мусин? — вопросил Туманов.
— Нет, бачка-начальник! — закричали башкирцы. — Зеутфундин Мусин помрил горлом себе резал, сапсем кончал. Срамно был свой наслег показаться, свой дюрта.
Многие сотни башкирцев, как по уговору, вскочили в седла. — Веди нас к бачке-осударю!.. Вот ужо Салават-батырь придёт, вот ужо-ужо Юлай придёт!
Постоим за бачку-осударя! Стрелы наши метки, кони, как ветер, быстры.
Степь застонет от их топота, и все супротивники будут раздавлены, как ползучие гады…
И уже не слушали Григория Туманова, только вопили:
— Веди!
Так было во многих скрытных местах, во многих селениях. И вскоре почти вся Башкирия, раздраженная жестокостями разных Ступишиных с Фоками, потянулась к Емельяну Иванычу. Так тянется к теплому солнцу освобожденная от ледяного холода весенняя степь.
К началу мая скопилось у Пугачёва до пяти тысяч народу. И вот он выступил по направлению к Верхне-Яицкой дистанции, туда, где его меньше всего ожидали. Из четырех крепостей этой дистанции самая большая была Верхне-Яицкая. Пугачёв прошел мимо: он знал, что всякий его неуспех мог гибельно отразиться на его деле, тогда как удача в овладении той или иной крепостью могла склонить на его сторону даже и то население, которое находилось в положении выжидательном.
И Пугачёв, подойдя к более слабой — Магнитной крепости, окружил ее.
Тем временем Военная коллегия послала строгий указ Белобородову, в коем указе: «наистрожайше определяется с получением сего тот самый час выступить и секурсировать под Магнитную к его величеству в армию с имеющейся при тебе артиллериею».
Комендант крепости Магнитной капитан Тихановский, при содействии гарнизона и жителей, успешно до вечера отбивал все атаки наступавших.
У Пугачёвцев было мало пушек. В последнем штурме вел войска на приступ сам Пугачёв.
— Грудью, грудью, детушки!.. Эх, тряхни!.. — подбадривал он свою рать.
В разгаре боя он был ранен картечью в левую руку. Его отвели в кибитку. Встревоженный Андрей Горбатов осмотрел руку — кость цела — и, как умел, перевязал ее.
С наступлением ночи, разделившись на пять отрядов, Пугачёвцы близко прокрались к деревянным заплотам. Во тьме они зорко следили, как зажженный вражеский фитиль «подносился к выстрелу», и разом падали ниц. Затем, когда пушки выпускали снаряд, осаждающие, вскочив, мчались к заплотам, дружным натиском быстро ломали их. И к утру, после упорного боя, ворвались в крепость.
Капитан Тихановский с женой и жена убитого поручика были повешены.
На следующее утро, а именно 8 мая, в стан явился Белобородов с отрядом в шестьсот человек, главным образом заводских крестьян. Вскоре он был позван к Пугачёву в его обширную кибитку (юрту) белой кошмы, разукрашенной узорами из разноцветного сафьяна. Пол кибитки и тахта — в дорогих коврах. Белобородов с душевным трепетом подошел к кибитке. Он знал, что на него были царю доносы, что царь на него в гневе.
Дежурный Давилин при входе отобрал от Белобородова все оружие, оставив ему лишь палку с завитком, на которую тот опирался. Белобородов еще более оробел.
В кибитке, куда он с яркого света вошел, дремал полусумрак, мешавший прибывшему рассмотреть выражение государева лица. Он сразу же опустился перед Пугачёвым на колени и уткнулся лбом в ковер. С левой рукой на перевязи, Емельян Иваныч сидел в кожаном кресле. Невзирая на вчерашнее ранение, он был бодр и весел — крепость взята с боем, а Белобородов привел шесть сотен молодцов.
— Встань, Иван Наумыч, — обратился он к Белобородову и насупил брови.
— Скажи мне, — отделиться ты от меня хотел, чтобы своевольничать. Не гоже это!
— Облыжно оклеветали меня, ваше величество, — опираясь на палку, поднялся Белобородов. — Как служил вам верой и правдой, так и по гроб служить намерение твердое имею. А это я знаю, кто это, — Шибаев казак клеплет на меня.
— Верно, он… Стало, ты не супротивник мне? Не злоумышлял против меня, государя своего?
— Ваше величество! — ударил Белобородов кулаком себя в грудь. — Я весь перед вами. Верьте мне! И дозвольте молвить…
— Сказывай, Иван Наумыч. Эй, Давилин, подай-кось сюда какое не то стуло! Ну вот, садись, атаман, да сказывай.
Ободренный милостивым обхождением, Иван Наумыч сел, выпрямился и, опираясь на клюшку, стал кратко, но толково докладывать о всех делах своих. Пугачёв попутно ставил ему вопросы, Белобородов по-умному отвечал на них. Беседа тянулась долго. И вот она идёт к концу.
— В бытность же мою на Саткинском заводе прислан от вашего величества в помощь мне атаман из бывших унтер-офицеров, дворянин Михайло Голев. А как я увидел, что тот Голев стал делать непорядки и пьянствовать, то, сковав его, отослал обратно к вам.
— Голев Михайло под Татищевой убит, — вздохнув, молвил Пугачёв.
— Царство ему небесное, — перекрестился Белобородов. — А когда пришел я в Нижние Киги, явились ко мне из вашей армии два казака да атаман. Казак по тайности донес мне, что они все трое отложились от вас и прибыли ко мне с увещательным князя Щербатова указом отвращать людей от вашего величества. Тех двух казаков да атамана я велел повесить.
— Гарно, — сказал Пугачёв, и суровые складки над его переносицей распрямились.
— Вскорости после того прибыл от вас илецкий казак есаул Иван Шибаев, он привез приказ двигаться мне под Магнитную крепость, а сам уехал обратно. Меня подзадержало с выступлением разлитие рек, все дороги рухнули. Довелось ждать. И вот получаю я от жителей Шайтанского завода известие, что Иван Шибаев в оном заводе хозяйский дом разграбил, у жителей лошадей и седла отобрал, почему я и послал следом за ним команду в сто человек поймать его и заковать. Прибыв и сам туда, я уведомился, что Иван Шибаев скован, что он послал на меня вашему величеству рапорт, будто бы я хочу-де от вас отложиться. Тут я в гнев вошел, огрел вот этой самой клюшкой Шибаева Ваньку по морде и под караулом препроводил его к вам, батюшка.
Пугачёв встал, обнял правой здоровой рукой поднявшегося Белобородова и по-братски поцеловал его в щеку.
— Будь и впредь верен мне, Иван Наумыч, спасибо тебе за службу твою.
Он вынул из кармана большую медаль — рубль Петра Первого с припаянным ушком и красным бантом — и, наморщив нос, приколол её на грудь Белобородова. Поймав царскую руку, тот облобызал ее.
— Давилин! — позвал Пугачёв. — Подай нам с атаманом по чарке сладкой водки.
По выходе Белобородова из кибитки к нему просунулся Федор Чумаков и, оглаживая широкую, как новый веник, бороду, тайным шепотом спросил его:
— Узнал ли ты государя? Ведь в Питере видывал его, поди, не раз.