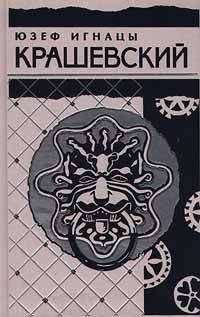— Но опасность…
— Что? — спросил Бегуелин. — Разве вы не знали, отправляясь сюда, чем это пахнет? Впрочем, опасность не велика, если вы сумеете быть осторожным в продолжение еще нескольких недель.
— Как в продолжение нескольких недель? — спросил Симонис.
— Да так! — ответил Бегуелин, засунув руки в карманы. — Через несколько недель мы здесь будем господами.
Последние слова он сказал на ухо Симонису. Симонис не мог выговорить ни одного слова от удивления, Бегуелин смеялся…
— Это так же верно, как то, что я стою перед вами, — сказал он; — потому я и стараюсь распродать свои сыры раньше, чем придут "наши", которые, пожалуй, готовы даже с меня взять контрибуцию. Уж лучше пусть они берут его у купцов под расписки, чем у меня. Вы мне оказали бы большую услугу, если б нашли покупателя на мой сыр… Но вы не смейтесь над тем, что прусские дипломаты торгуют сыром; наш король очень скуп и мало платит, не так, как Август Брюлю. Да чего же лучше!.. Если у Гернберга в коридоре баба продает молоко в его пользу, а графу Люси в Лондоне разрешено торговать постным маслом [1], то почему же и мне не торговать сыром?
Бегуелин расхохотался и, провожая с поклоном Симониса, сам открыл ему двери.
Макс вышел от советника на улицу; начинало уже темнеть. Он вздохнул свободнее, когда отошел от его дома на порядочное расстояние, и ему уже казалось, что в этот день его не встретит никакая неприятность; однако Ментцель со своими упреками Бегуелину, открывшаяся тайна, арест капитана Фельнера, отгадавшая его Пепита, жена министра с ее черными глазами, завтрашнее представление министру — все это производило в его голове какой-то сумбур. Потупив голову, он в раздумье, машинально направлялся к себе на квартиру, как вдруг почувствовал, что кто-то его толкнул. Он поднял голову. Двое носильщиков, одетых в желтые фраки, пронесли мимо него носилки. Из окна выглянула голова в высоком парике и послышался возглас: — Стой! Стой!
Носильщики остановились. Только внимательно всмотревшись в пестрое лицо, набеленное и нарумяненное, Симонис узнал в нем свою спутницу, чувствительную Дори, которая ехала вместе с ним из Берлина; приехав в "трясучке", она возвысилась до носилок, была хорошо одета и на лице, из-под толстого слоя румян и белил, видна была какая-то радость, даже сияние.
Носилки стояли на земле; девица Дори выглянула из них и предложила товарищу по путешествию подойти к ней.
— Ах, как я счастлива, что я встретилась с вами! — воскликнула она. — Идите сюда… На одно только словечко! Я должна вам рассказать свою историю. Мне улыбнулось счастье. Я здесь нашла давнишнюю мою приятельницу, которая пристроила меня в театр. Это такая женщина, что все может сделать, если только захочет… При ее помощи я и вам могу оказать протекцию.
При этом она улыбнулась.
— Да, да, добрейшая Мина приютила и меня. Вы знаете, кто это Мина?
— Нет, сударыня, — ответил Симонис рассеянно; ему было неприятно ее щебетанье, — я совершенно не знаю, кто такая Мина.
— Да, ведь вы здесь чужой!.. Но весь свет знает, что министр, кроме своей жены, которую он не любит, так как ее любят другие, — имеет фаворитку, во-первых графиню Мошинскую… Потом графиню Штернберг; посещает также в грустные минуты Терезу Альбузи, но больше всех любит мою Мину, Мину Теннерт… Ах, если б вы знали, какой он ей дом построил!..
Затем она наклонилась и прибавила на ухо:
— Она не особенно верна ему, но он об этом и не беспокоится; ему только хочется слышать ее веселое щебетанье и видеть веселое лицо. Мина отлично умеет его развлекать… И эта-то Мина моя самая задушевная приятельница… Мы влюблены друг в друга, как лесбиянки.
Откровенность эта надоела Симонису, он хотел поскорее избавиться от нее и отделывался молчанием, но она, опасаясь, что он уйдет от нее, схватила его за руку.
— Я еду именно к Мине, и вы меня должны проводить… Не отказывайтесь, ничего не поможет.
— Когда-нибудь в другое время, но только не сегодня! — сказал Симонис.
— Нет, именно сегодня! Непременно сегодня! Вечером у нас никого не будет. У министра теперь какие-то дела, которые удерживают его дома… Я вам скажу по секрету: Мина влюблена в одного секретаря Брюля, некоего Блюмли. Он может многое сделать, и я вас познакомлю с ним.
Симонис даже вздрогнул; он очень хотел повидаться с Блюмли.
— Если там будет Блюмли, то я к вашим услугам! — ответил он.
— Вот, видите, какой вы невежа, ради меня вы не хотели пойти, а ради этого…
— Он мой друг и соотечественник! Дори сделала знак носильщикам.
— Идите рядом со мной! — сказала она. — Как вы меня находите сегодня? Не правда ли, что эта прическа мне к лицу… Королевский парикмахер божился, что он не дал бы мне больше двадцати лет!
Она вздохнула.
Беседуя таким образом и не отпуская от себя Симониса, француженка привела его к дому, где жила знаменитая в то время певица Вильгельмина Теннерт.
Дом Теннерт, если нельзя было назвать дворцом, то, во всяком случае, роскошным зданием с садом на Вильдрумском предместье. Он был построен Брюлем, как и для Альбузи. Там, где министр проводил иногда вечера, не могло не быть роскоши и излишества: каждый сразу мог сказать, что это дом магнатки или великой артистки. На лестнице внизу стояли две мраморные статуи, державшие лампы в поднятых кверху руках. Фигуры эти изображали двух полунагих женщин, обвитых венками из цветов и листьев. Два лакея в шикарных ливреях встретили гостей внизу. Дори, выйдя из носилок, повела своего пленника на первый этаж. В передней стоял в такой же ливрее лакей; на нем был одет роскошный парик. Он открыл им двери в небольшую комнату, которая скорее была похожа на игрушку, чем на комнату. Стены были обиты атласными обоями с белыми и золотыми каемками по ним, вроде рам. Этим белым рамам, золоту и цветам соответствовали фарфоровые, с такими же цветами, рамы зеркал, такой же камин, люстра из цветов, бабочек и птиц; мебель была покрыта той же материей, из какой были обои.
На окнах стояли живые цветы в фарфоровых горшках; в комнате находились Мина и Блюмли.
Хотя Мине давно уже минуло двадцать лет, но она хорошо сохранилась и выглядела моложаво. Это был совершеннейший тип немецкой красоты: золотисто-светлые волосы, голубые глаза, лицо белое, прозрачное; обладая высоким ростом, она напоминала дикую Туснельду, рука которой владела в совершенстве луком, а в случае нужды и палкой. Она была бы очень представительна, если бы прибавить побольше женственности; а так от нее веяло холодом. Ее нельзя было назвать красивой. Симонис нашел, что такая красота только для разнообразия могла понравиться скучающему министру. Говорили, что она обладала прекрасным голосом.
Дори бросилась к ней с самым горячим приветствием, точно они не виделись уже несколько лет. Блюмли был поражен, заметив идущего за ней Симониса.
— Я поймала на улице этого господина, с которым познакомилась по дороге в Дрезден и решилась пригласить его сюда.
— Дорогая Мина, — залепетала Дори, — надеюсь, что ты не рассердишься на меня за это, тем больше, что он друг твоего друга.
Посмотрев издали на швейцарца, Мина приняла его очень холодно. Она вообще не любила гостей, когда у нее бывал Блюмли. Последний тоже довольно холодно встретил Симониса, но тем не менее Дори, как ни в чем не бывало, уже хозяйничала в гостиной в самом лучшем настроении.
Симонис в нескольких словах извинился перед хозяйкой и отвел Блюмли в сторону.
— Я никак не мог отвязаться от этой бабы, — шепнул он ему на ухо, — и теперь вижу, что и я, и она здесь незваные гости, но мне необходимо было переговорить с тобой несколько слов и затем я сейчас же удалюсь.
— Если б ты мог взять с собой и эту старую каргу! — воскликнул Блюмли. — Но я не могу требовать от тебя такого геройства.
— Каким образом случилось, что завтра я буду представлен министру? — спросил Симонис.
— Очень просто: ты понравился графине, и она велела мужу познакомиться с тобой и дать тебе место при дворе.
— Но ведь я не могу принять… я не сумею… — ответил Симонис.
— Почему? — удивленно спросил Блюмли. — Счастье само идет к тебе навстречу. Ведь графиня тебе понравилась, ты свободен, и обязанности секретаря, как мне кажется, ты чаще будешь исполнять в ее канцелярии, чем в нашей. Что же может быть для тебя благоприятнее!..
— Я буду откровенен, — ответил Симонис, — я уже раздумал и не хочу повторить судьбу Сциферта. Мне не нравятся Кенигштейн и позорный столб!.. Я молод и не могу ручаться за свое сердце.
Блюмли посмотрел на него с вниманием.
— Я тебя не понимаю, — сказал он, — верно, тебе что-нибудь другое мешает; ведь я давно знаю тебя… да и при первом нашем разговоре ты был другим. Что же это? Тебя запугали?
— Понимай, как хочешь.