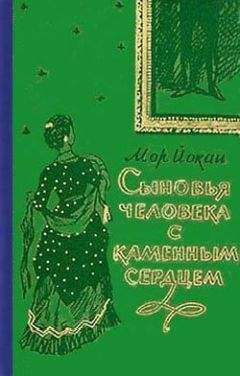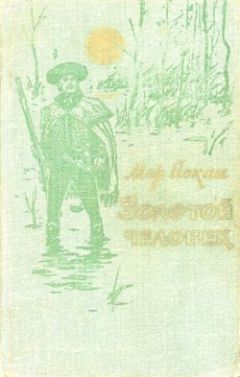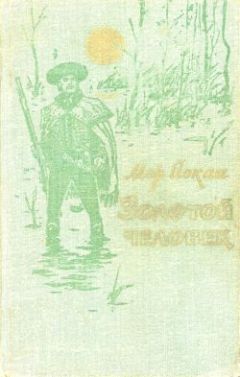– Да, матушка, это тяжелое бремя.
– И ты допустишь, чтобы мои рамена сломились под этой тяжестью, когда я возьму на себя это бремя?
– 'Если такова последняя воля отца… И, разумеется, если ты сама этого желаешь…
– Разве моя воля для тебя – закон?
– Ты хорошо знаешь, мама, что твое желание для меня свято.
– Хорошо, я скажу тебе, какова моя воля. Дому Барадлаи нужны хозяин и хозяйка! Хозяин, который способен повелевать, и хозяйка, которая способна привлекать сердца.
– Да, мама, – согласился Эден, склонив голову.
– Этим хозяином будешь ты!
От изумления Эден вздрогнул.
– Да, ты будешь хозяином в этом доме, а твоя жена – хозяйкой в нем.
Эден тяжко вздохнул.
– Мама, ты знаешь, что это невозможно.
– Ты не намерен жениться?
– Никогда!
– Не говори так! Тебе всего двадцать четыре года. Кто знает, сколько тебе еще предстоит прожить? И все это время в твоем сердце будет звучать этот Леденящий возглас: «Никогда»?
– Мама, тебе хорошо известна причина моего отказа, – тихо произнес Эден. – Я научился страдать молча: это я унаследовал от отца и от тебя, мама. Я не жалуюсь, Я молчу. Ты то знаешь, что такое молчать! Молчать долгие годы! Я не могу никого любить, за исключением моей доброй матери. Я готов страдать и дальше. Так мы и состаримся вдвоем. Вдова и ее сын-отшельник.
Госпожа Барадлаи рассмеялась, выслушав эту грустную тираду.
– Какой же ты фантазер, Эден. Из тебя не получится картезианский монах. Мир полон красавиц, достойных любви. И ты найдешь себе девушку по душе.
– Ты же знаешь, что нет!
– А если я сама уже нашла ее для тебя?
– Напрасно, мама.
– Не спеши, – отвечала вдова, нежно прижимая к себе сына. – Кто решится вынести приговор, не видя ответчика? Берешься быть судьей, даже не выслушав обвиняемого!
– Мама, я сам обвиняемый, приговоренный к вечной муке.
– А между тем та, кого я для тебя выбрала, писаная красавица, умница и любит тебя!
– Да если бы она была даже наделена красотой феи и добротой ангела, если бы у нее было такое же бесценное сердце, как у тебя, – далее тогда я отказался бы от нее.
– О, не давай таких страшных зароков! Право же, пожалеешь! Вот увидишь, еще возьмешь свои слова обратно! По крайней мере взгляни хоть на ее портрет. Он у меня в той комнате.
– Он меня не интересует.
– Это мы сейчас увидим.
Взяв сына под руку, мать повела его в соседнюю комнату и, распахнув перед ним дверь, пропустила вперед.
И там Эден увидел Аранку, трепетавшую от счастья: она слышала весь их разговор.
Существовала ли в мире сила, способная помешать' двум этим любящим сердцам соединиться? Могли ли влюбленные сдержать слезы радости? Могли ли их уста не слиться в горячем поцелуе?
– О моя любимая!..
– О мой единственный!..
Госпожа Барадлаи взяла обоих за руки и шепнула Эдену:
– Ну, теперь-то ты веришь, что в доме будет хозяин и хозяйка?
И счастливый Эден также шепотом ответил ей:
– Верю!
Влюбленные осыпали поцелуями лицо, руки и плечи своей матери.
А госпожа Барадлаи, молча и пристально глядела на портрет в массивной позолоченной раме, висевший рядом с ее девичьим портретом. Обращаясь к человеку, надменно взиравшему на нее со стены, она едва слышно проговорила:
– Ты видишь, как они счастливы? Неужели твое окаменевшее сердце не забилось бы при виде этой дивной картины? Разве я неправильно сделала, поступив наперекор твоим словам? Придешь ты в первую брачную ночь благословить молодых или проклясть их? Ответь же, непреклонный человек с каменным сердцем!
Но человек с каменным сердцем продолжал все так же надменно взирать на них из золоченой рамы.
Влюбленные не замечали этого.
Печальная вдова, неслышно ступая, вышла из комнаты, оставив их наедине; им о многом надо было поговорить друг с другом.
Придя к себе, госпожа Барадлаи достала из кожаной папки завещание, которое, умирая, продиктовал ей супруг, и красным карандашом подчеркнула строки, касавшиеся событий этого дня.
Пока все шло хорошо!..
Ни для кого не было тайной, что в семье Барадлаи ровно через шесть недель после похорон должна была состояться помолвка. Все говорили о новом хозяине, чье имя будет отныне носить этот дом.
В тот день из ближних и дальних мест съезжались гости, приглашенные от имени сиятельной вдовы, разумеется, просто на семейный праздник.
Уже с утра во двор замка одна за другой прибывали кареты и коляски, парадные выезды и простые упряжки; на сей раз они доставляли сюда не только представителей сильного пола, нет – господа приезжали с женами и даже с дочерьми.
Право же, барышень понаехало пропасть!
Весть о том, что молодой Барадлаи вернулся домой из-за границы без кольца на руке, быстро разнеслась далеко окрест. Ничего не скажешь, – благородный зверь! На него стоило устроить облаву.
Среди прочих господ прибыл на праздник и господин Зебулон Таллероши. Но на этот раз он явился перед светом с помпой, приличествующей его положению.
Его старая карста была обтянута свежей кожей, и на дверцах красовался фамильный герб Таллероши. Экипаж был запряжен четверкой лошадей, правда одну пристяжную взяли из выбракованных солдатских коней, а вторая немного прихрамывала, в то время как подседельная семенила, а при взгляде на коренную ясно было видно, что она прежде ходила в пристяжке; и тем не менее этот выезд выглядел вполне парадно, и четверка коней Зебулона так же звенела бубенцами, как любой другой господский выезд.
Рядом с кучером восседал гайдук. Правда, ливреи на том и другом были разные, но обе щедро расшиты шнурами. На гайдуке сверкала красная гусарская шапка, весьма поднимавшая хозяйский престиж. Жаль только, что кучеру не удалось наклеить такие же усы, как у других господских кучеров; они бы как нельзя лучше подошли к его украшенной длинными лентами шляпе.
Зебулон приехал не один. Он привез с собой одну из своих дочерей: довольно пригожую, хотя несколько долговязую девицу. К тому же она слишком сильно затягивалась в корсет и беспрестанно грызла сырые кофейные зерна, чтобы согнать румянец с лица.
Достопочтенный господин Таллероши вышел нынче из экипажа не в шубе, а в новом сюртуке из тонкого касторового сукна; высоко поднятый воротник этого сюртука мог создать славу любому деревенскому портному. Барышня была в шелковой накидке и в ярко-зеленой шляпке.
– Эй, Янош, слышите, Янош, – обратился Зебулон к гайдуку, которому дома все говорили «ты», – осторожно снимите все с кареты: не уроните сундучок, слышите? В нем шелковая одежда. И смотрите у меня, Янош, ничего не поломайте, а то в морду получишь… то бишь получите. Эй, Карика, где у тебя торба, или, как его… ридикюль. Гляди, не потеряй: там драгоценности.
Вдруг послышался громкий стук копыт и звон упряжи: это ехал он, герой торжества, Ридегвари. Ехал в новой, словно только что изготовленной карете, запряженной пятью чистокровными рысаками. Ведь денег у него хватало! Сколько хотел, столько и тратил на «представительство»! На козлах с кучером восседал настоящий гусар, он спрыгнул, чтобы распахнуть дверцы кареты, подставил плечо его высокопревосходительству, чтобы тот с должной торжественностью мог ступить с подножки на землю.
Читатель не поверил бы нам, если бы мы вздумали утверждать, что не Зебулон первым приветствовал его высокопревосходительство, как только тот вышел из кареты.
– Добро пожаловать, твое высокопревосходительство! Да здравствует, виват и прочее! Мы вот тоже только что прибыли: вон выпрягают четверку моих лошадей. Я даже с дочкой прикатил на праздник. Радость-то какая! Где ты, Карика? Это – моя старшая дочь. Как видишь, еще не старушка. Ей и двадцати нет, вот-те крест. «Quod est autheniicum»,[31] как говорят французы. Ах ты, черт, забыл, как ее полное имя! Странно зовут моих дочерей, никак не могу запомнить. В их именах заключен что называется, «historicum datum»:[32] сразу легко вспомнить когда что происходило. Моя жена весьма просвещенная особа. Страсть как начитана! У нее в руках вечно торчит газета. В ту пору, когда родилась наша старшая дочка, па весь мир гремела греческая амазонка: изволишь знать, дочь капитана Спатара, по имени Кариклея. Большая знаменитость! Та самая, что на своем утлом суденышке продырявила турецкие корабли. В ее-то честь жена моя и нарекла нашу первую дочь Кариклеей.
Вторую дочь окрестили Каролиной Пиа: если помните, в ту пору его величество вступил в брак, и мы, значит, в честь его супруги и назвали дочь. Третья дочь – Адалгиса: тогда впервые ставили «Норму»[33] в пештском театре; моя жена присутствовала на спектакле, в ложе сидела. Когда четвертая дочь родилась, весь мир с ума сходил по тому Палацкому,[34] изволишь помнить? Ну, и до нас доходили о нем кое-какие слухи; вот мы и прозвали четвертую дочь Либушей. Потом я об этом немало жалел, но что поделаешь, назад не воротишь. А чтобы доказать свой искренний патриотизм, последнюю дочь мы назвали настоящим венгерским именем: Бендегузелла, в память известного предводителя древних мадьяр.[35]