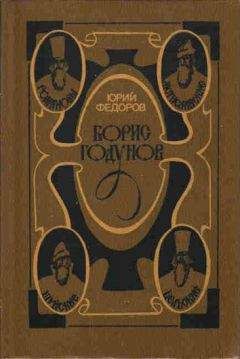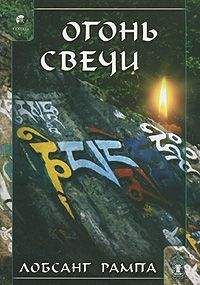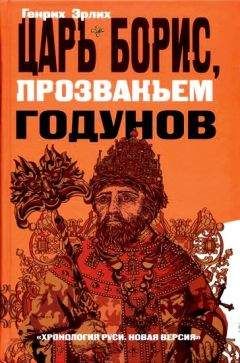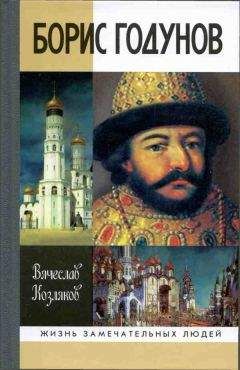А войско, пыля, шло и шло через Москву. Визжали кони, трещали оглобли сталкивающихся телег, и с грохотом прыгали по бревенчатым мостовым звероподобные пушки. Летела щепа, обнажая белое тело дерева. Пушечный приказ расстарался для нового царя. Катили пушки славного мастера Кашпира Гану-сова и еще более славного его ученика Андрея Чохова.
— Эка, — дивились москвичи, — такая пушечка рот раскроет…
Доспехи, конские приборы воевод и дворян блистали светлостью булата, драгоценными каменьями. Святой Георгий звал вперед со знамен, освященных патриархом, и пели, пели колокола.
Войска шли, поспешая. Поспешая же, шагал среди других Арсений Дятел. Кафтан на нем был хорош, пищаль меткого бою на плече ловко лежала, лицо ясно, и смело можно было сказать — такой знает, куда и зачем идет. А ведомо было: ежели всем горячего хлебнуть придется, то уж стрельцы хватать будут с самой сковородки.
6
По иной дороге и не так живо переставляя ноги шагал Иван-трехпалый. Бойкости не было в нем. Да и какая бойкость у мужика, откуда ей взяться, ежели не знает он, зачем и лапти-то бьет о дорогу? Но все же как ни шагал, а прошел Иван северские городки Почеп, Стародуб, Путивль, Рыльск, Севск, что прикрывали рубежи Руси и от поляка, и от литовца, и от крымца. Боевые городки, и пройти их непросто. Заставы здесь были крепки, стрельцы борзы, воеводы злы, осадные дома со стенами каменными, но вот прошел все же. Сторонкой, правда, оврагами да перелесками. Голову за кустики пряча, а то и вовсе на брюхе. Брюхо-то у мужика сызмала не шибко кормлено, горой не торчит, на нем и ползать способно. Ну да по этой дороге многие бегали. И все больше с поротыми задами, со спинами, рваными кнутом, а то еще и такое видеть можно было: крадется человек за зелеными осинами, а у него лоб повязан тряпицей. Спрашивать не надо, к чему бы такое. И так ясно: с катом повстречался сокол, и на лоб ему положили меточку. Каленым железом. А железо крепко припечатывает. На всю жизнь. Песочком не ототрешь.
Одно спасало Ивана в пути — хоронился по крестьянским черным домам. Здесь многие были злы на беспощадное царево тягло, на безмерные поборы, дани, пошлины, оброки, на начальственных людей. Оберегали. Да оно на Руси всегда жалели беглых. Мужику — не тому, так иному, особенно из тех, что поумнее, — ведомо: сей день в своем доме, а завтра, глядишь, и сам побежал. Такой беглого схоронит от недоброго взгляда. Земля сия была богата — черна, жирна, но зорена многажды. Здесь мужику обрастать не давали, обстригали до голого места. Вон беленая хата на бугре, хозяином изукрашенная любовно. Рушники красочно шитые под образами, затейливый журавль над колодцем… Но налетят вороги, и как языком слизнет и хату, и рушники, и журавль. А хозяина — с петлей на шее — уведут в полон. Отчего так? Почему не сидится, неможется людям, чтобы без огня, головешек на пепелищах, петли на шее? Или они не могут по-иному и вечно будет один давить другого? Кто ответит, да и есть ли ответ?
Иван выглянул из овражка. Огляделся. Глаза безрадостные. Плохо глядели глаза. В дороге запорошило, забило пылью. Но все одно увидел Иван: облитый весенним солнцем, сверкал, играя чудными красками на росной траве, поднимающийся день. В Москве едва брызнуло зеленью с оживших от зимней спячки деревьев, а здесь буйная круговерть уже зашумела, заплясала, закружилась во всю силу сладостной, необоримой пляски торжествующей весны. И казалось, за птичьим щебетом, за звоном ветра было слышно, как шумят, бурлят соки в стволах деревьев, в гибких ветвях кустарника, в самой тонкой былке, сильно, мощно поднимающихся навстречу солнцу; и даже сама земля гудит и поет, переполненная той же силой весны.
— Эка ее, — сказал, моргая гноящимися глазами, Иван. — Да… — И, хрипло кашлянув, каркнул, как ворон: — Эка-а-а… — Растянул, словно понимая, что этот праздник не для него, а для того, кто выйдет в поле, поднимет землю и бросит зерно. И тогда уже, распрямив плечи, сладкий пот сотрет со лба. Вот вправду радость.
Но все же потянулась у Ивана сама собой рука, и он взял горсть земли. Но земля — теплая и живая — легла в ладонь холодным комом, хотя и был Иван кровь от крови и плоть от плоти крестьянский сын. Не ластилась земля к его ладони, не грела ее, но тяжелила, связывала руку, и Иван разжал пальцы. Вздохнул, как приморенная лошадь, вытер корявую ладонь о порты, присел на пенек. Опустил плечи. И так сидел долго, будто разом непомерно устал. Потом скинул со спины котомку, разложил на коленях сиротские кусочки. Сидел, жевал, катая желваки на скулах, мысли тяжело проворачивались в давно не чесанной голове. «Земля, — решил, — то уже не про нас… Ватажку бы вот собрать».
Подумал, как бы хорошо здесь, в леске, соорудить шалашик, огородить засеками — и ходи, гуляй смело. Можно и купчишку ковырнуть темной ночкой. Топориком по голове — и концы в воду. И ежели на одном-то месте не засиживаться, продержаться можно долго. Пока взгомонятся стрельцы — раз-два и ушли всей ватажкой в дальние леса. Слышал Иван на Москве, что ловкие люди так-то годами пробавляются, и пьют сладко, и едят вдосталь. «Вот, — размечтался, — судьба-то завидная, как у птицы лесной: тут поклевал, там и — фи-ить, фи-ить — вспорхнул крылышками». Разнежился под солнцем, прищурил глаза, как кот на теплой печи. А нежиться-то ему судьба не выпала. Его-то она все больше тычком пестовала, а тут, знать, забылась. Но, сразу же опамятовавшись, взяла свое.
За спиной у Ивана кашлянули. Мужика словно хватило поленом по затылку. Спина напряглась. «Да воскреснет бог», — произнес про себя давно не читанные слова молитвы. Испугался, что настигли стрельцы, но не дрогнул, а по-волчьи оборотился всем телом.
Перед ним стояли трое. Глянул Иван и понял: испугался зря. Таким орлам в степь только — воровать. И обрадовался донельзя: вот оно — только о ватажке подумал, и набежали людишки.
Старший из мужиков — он-то и кашлянул — вышагнул вперед. Бок у его сермяги был выдран, в прореху выглядывали желтые ребра. Рот разбит. За черными губами пеньки зубов.
Иван еще больше обрадовался: из бою, видать, мужички-то али бежали от кого лесом, оттого и побились и подрались о сучья да о коряги.
Нет, таких бояться было ни к чему. Подхватил с колен котомку Иван. Хохотнул:
— Что, мужики? Лихо?
Угрюмо глядя на него, мужик в рваной сермяге хрипло спросил:
— А ты кто таков, что нас пытаешь? — и тронул заткнутую за лыковый поясок дубину.
Собрав добрые морщинки у глаз, Иван все так же бойко, как будто и не было нехороших дум, зачастил:
— Как хочешь назови, только хлебом накорми. Ежели водочки подашь — вовсе будет в самый раз.
Слово «водочка» Иван произнес ласково, уважительно, так, что невольно каждый услышавший слюну сглотнул. Ну будто бы не сказал человек, а и впрямь по рюмочке поднес. Вот так: взмахнул колдовски рукой, и на растопыренных пальцах серебряное блюдо, на нем налитые до краев стаканчики. Прими, дружок, выпей сладкой.
У мужика с голым боком дрогнул разбитый рот, губы поползли в стороны.
— Веселый? — удивленно сказал он и повторил: — Веселый. — Лаптями переступил.
Острым глазом Иван приметил: «Не жрамши идут мужики». И сообразил: присел, раскинул котомку. И хотя невелик был запас: полдюжины луковиц да немного хлеба, — но у мужиков глаза заблестели.
— Садитесь, — сказал Иван и опять пошутил: — Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою.
Мужики к котомке, как к иконе, опустились на колени. Старшой несмело протянул руку, будто не веря, что дошло до ежева. За ним и другие потянулись. И так-то со смаком захрустел ядреный лук на зубах. С полным ртом мужик в сермяге, оправдываясь, сказал:
— Христа ради идем. Третий день крошки во рту не было.
А Иван и так видел, что мужикам трудно пришлось. На лицах, как взялись за хлеб, проступила каждая косточка. Такое только тот приметит, кто сам голодовал. Глаза у человека, что хлеба давно не видел, западают, тускнеют, наливаются белой, незрячей мутью. И коли положить перед ним хлеб, не вспыхнут они, но уйдут еще глубже, проглянут скулы сквозь кожу, обострится нос и все лицо, обтянувшись, жадно оборотится к куску. Иван отвернулся в сторону, чтобы не смущать мужиков. Знал: голодному трудно, коли смотрят, как он руку тянет к хлебу.
Мужики рассказали, что идут они из-под Москвы.
— Мы, — сказал старшой, — вотчинные люди. Князь наш, — мужик перекрестился, — преставился. Осталась его вдовица со чадом. Ну и как положено, — поиграл со злостью желваками, — княгинюшку и затеснили, а нас — и говорить нечего… Вовсе житья никакого не стало… А так мы смирные. — Руками развел. — А защиты нет. Побежишь… — Стряхнул в ладонь крошки с бороды, бросил в рот.
— А куда бежать-то собрались? — спросил Иван не без своей мысли.
— А куда хошь, — ответил мужик, безнадежно махнув рукой, — хотя бы и в Дикое поле. Нам все едино.