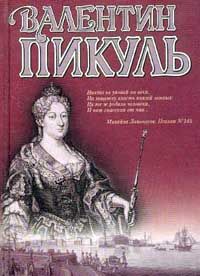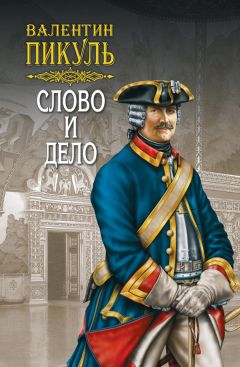Но особенно обидно за образ Тредиаковского… Жаль, если наш советский читатель воспримет поэта таким, каким он изображен в романе. Пушкин ставил Тредиаковского в русской поэзии гораздо выше Ломоносова и Сумарокова, он был зачинателем всей русской поэзии. Это был замечательный человек своего века, преданный забвению еще при жизни, осмеянный при дворе и умерший в нищете, до последнего вздоха трудясь на благо русской словесности…
Вот как Лажечников описывал Тредиаковского:
«О! По самодовольству, глубоко протоптавшему на лице слово „педант“! — по этой бандероле, развевающейся на лбу каждого бездарного труженика учености, по бородавке на щеке вы угадали бы сейчас будущего профессора элоквенции Василия Кирилловича Тредиаковского. Он нес огромный фолиант под мышкой. И тут разгадать нетрудно, что он нес, — то, что составляло с ним: я и он, он и я Монтеня, свое имя, свою славу, шумящую над вами совиными крылами, как скоро это имя произносишь, власяницу бездарности, вериги для терпения, орудие насмешки для всех возрастов, для глупца и умного. Одним словом, он нес „Тилемахиду“…»
Сразу же выбросим отсюда «Тилемахиду», которую поэт никак не мог нести под мышкой, ибо эта поэма в ту пору еще не была им написана. Под пером Лажечникова поэт превратился в полуидиота, бездарного педанта, забитого и жалкого, который заранее обречен на унижение и тумаки. А между тем, как писал Н. И. Новиков, «сей муж был великого разума, многого учения, обширного знания и беспримерного трудолюбия… Полезными своими трудами приобрел себе славу бессмертную!» И первым, кто вступился за честь поэта, был опятьтаки Пушкин: «За Василия Тредиаковского, признаюсь, я готов с вами поспорить. Вы, — писал он автору, — оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей. В деле же Волынского играет он лицо мученика…» В тон Пушкину позже вторил Белинский: «Бедный Тредиаковский! тебя до сих пор едят писаки и не нарадуются досыта, что в твоем лице нещадно бито было оплеухами и палками достоинство литератора, ученого и поэта!»
Во время работы над романом я-по долгу своего ремесла — обязан был вчитываться в стихи Тредиаковского. Не скажу, чтобы это занятие было праздничным.
Иной раз приходилось продираться через столкновение кратких взрывчатых слов, не всегда понятных. Но порою словно открылось чудесное окно, и тогда я пил чистый ветер истинной поэзии и гармонии, каким могли бы позавидовать и современные мне поэты… Тредиаковский был кристально прозрачен для людей века XVIII, которые не спотыкались на чтении его стихов, которым был понятен язык поэта — язык их времени, язык «разодрания» кондиций, язык пожаров Бахчисарая и Хотина, язык курьезных свадеб и потешных маскарадов. Все несчастье Тредиаковского в том, что он был только творцом, но не сумел быть бойцом за права писателя, какими стали позже Ломоносов, Сумароков, Державин… Тредиаковский одновременно и прост, и сложен, как Маяковский, от него и тянется заманчивая тропинка русской поэзии, уводящая нас в трепетные гущи блоковских очарований!
Лажечников же, вольно или невольно развил в своем романе тему презрения к поэту, начало которому положила императрица Екатерина II. Как доказал Юрий Тынянов она боялась В «Тилемахиде» не слога поэтического, а политического смысла поэмы, бьющего прямо в нее, как в мать российского Гамлета. На шутейных куртагах в Эрмитаже Екатерина, издеваясь над поэтом, заставляла провинившихся вельмож или выпить стакан воды или прочесть в наказание строфу из «Тилемахиды». Традиция презрения к Тредиаковскому была утверждена авторитетом Лажечникова, этим узаконенным презрением русская публика приобрела себе право не читать его стихов.
Но, как бы то ни было, роман «Ледяной дом» в русской публике встречен был хорошо. Не одно поколение судило (и продолжает судить) об эпохе Анны Кровавой именно по Лажечникову. Антиисторический роман, благодаря интересу к нему читателей, все же имел прогрессивное значение. Кстати, того же добивался и либеральный автор, который строки Рылеева хотел проставить эпиграфом к своему роману. Но Рылеев в глазах Николая I был преступен так же, как был преступен Волынский в глазах Анны Кровавой, и цензура этот эпиграф сняла. Зато комплименты николаевскому режиму остались…
Очень прощу читателя не подозревать меня в соперничестве с Лажечниковым.
Здесь я не внес ничего нового в критическое отношение к его роману. Все это сказано задолго до меня! Примерно так же пишут и солидные историки — авторы предисловий к советским изданиям «Ледяного дома».
Среди множества улиц Петербурга — Петрограда — Ленинграда есть одна — улица-ветеран, которая в череде бурных изменений, вот уже более 200 лет (!), сумела сохранить свое историческое название. Это переулок Волынского.
Дом А-П. Волынского стоял примерно на месте нынешнего ДЛТ, от него же к Мойке и тянулся переулок. Но памятник Волынскому следует искать в другом месте города…
Не все ленинградцы знают, что в их городе находится памятник Волынскому. И немудрено — надгробие это совсем затерялось среди величия славных монументов прошлого… Ищите его на Выборгской стороне! Памятник стоит напротив улицы Братства, возле стен древнего храма Сампсония, а за ним шумит парк, посаженный нашими отцами, когда они были молоды. На пьедестале еще можно разглядеть факелы, олицетворяющие неугасимую правду, они обвиты оливковой ветвью — символом примирения нового с прошлым. Муза истории, божественная и мудрая Клио, держит в руках развернутый свиток, на котором отчеканены слова декабриста Рылеева:
И пусть падет! Но будет жив
В сердцах и памяти народной…
Пройдем же за ограду, читатель, где при вратах храма опочил прах российских патриотов. Постоим над могилою, отрешаясь от звонков трамваев и шуршания шин по асфальту. Итак, снова век осьмнадцатый. Опять леса, костры, жуть. Синие вьюги клубятся над несчастной Россией, замело снегом Петербург… Елизавета Петровна вызволила из монастырей и тюрьмы дочерей и сына Волынского.
Петр так и угас, ничем не отличившись, а дочери стали блистать при дворе.
Елизавета выдала их за своих близких родственников: Марию — за графа Ивана Воронцова, Анну — за графа Андрея Гендрикова. Дочери Волынского и водрузили первый памятник отцу и его соратникам. Казненные были людьми рослыми, крупными, мужиковатыми. Их было трое. А плита на могиле столь мала, что едва могла накрыть место одного захоронения. Тут какая-то некрополическая загадка, которую я разрешить не берусь.
Екатерина II позднее велела обновить памятник. За счет казны на старой плите, положенной дочерьми Волынского, был воздвигнут цоколь из желтого плитняка. На цоколе — колонна из серого мрамора, которую венчала урна белого мрамора. Ходили тотаа слухи, что если сдвинуть верхний цоколь, то под ним можно обнаружить слова: «Казнены невинно». На самом же деле такой надписи там никогда не было…
Когда вышел роман Лажечникова «Ледяной дом», и начались удивительные демонстрации читателей к забытой могиле. «Ограда храма Сампсония-странноприимца сделалась местом любознательного паломничества. Обоего пола жители столицы начали посещать до той поры почти никому не ведомую могилу Волынского». Тысячи петербуржцев с детьми шагали на далекую Выборгскую сторону, чтобы поклониться праху патриота, вспоминая строки декабриста Рылеева:
Отец семейства! — приведи
К могиле мученика сына,
Да закипит в его груди
Святая ревность гражданина…
Вражда к тиранству закипит
Неукротимая в потомках -
И Русь священная узрит
Власть чужеродную в обломках!
Один из петербуржцев века прошлого, которого еще ребенком водили родители на могилу Волынского, решил посетить ее в старости — в 1883 году. Цоколь уже обветшал, урна свободно вращалась на заржавленном стержне, а желтые лишайники ползли из щелей мрамора, заращивая сглаженную временем надпись:
Зде лежигь Артемей…
Ту же погребен…
Андрей Ф…чь
Хрущовъ и… трь
Еропкинь
Духовенство причта церкви Сампсония относилось к памятнику варварски.. Оно устроило для прихожан «большой общественный ретирадник (т. е. уборную), весьма грязно содержавшийся у самого входа в церковную ограду, всего лишь в нескольких шагах от могилы Волынского». В печати появились статьи, напомнившие о прошлой трагедии. Журнал «Русская старина» выступил с призывом ко всем потомкам лиц, пострадавших в царствование Анны Кровавой, «равно всех ревнителей старины и почитателей памяти знаменитого исторического деятеля Волынского присоединить свои пожертвования на возобновление памятника». В числе жертвователей были военные, историки, купцы, крестьяне, потомки декабристов и конфидентов Волынского. В списке жертвователей мне встретился и Петр Михайлович Еропкин — не только однофамилец, но и тезка по имени-отчеству славного зодчего. Самый большой взнос с 1000 рублей редакция журнала получила от Софьи Селифонтовой — побочной потомицы А. П. Волынского, род которого к тому времени окончательно вымер. Деньги на создание памятника шли отовсюду — даже из-за рубежа.