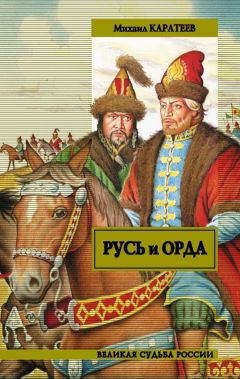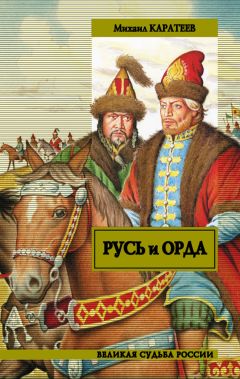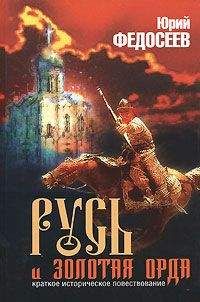— Вестимо, забоялись. Важно ты их проучил, Иван Васильевич! Мне княжич мой Михайло рассказывал и уж не знаю, кому больше воздал хвалы, — тебе ли за воинскую мудрость или сыну твоему за доблесть и силу. А твой Арсений и впрямь богатырь, да к тому и душой приятен, с ним мы уже добре знакомы. Воистину можешь гордиться таким сыном!
— На добром слове спасибо, Иван Мстиславич! Особо же рад я тому, что так хвалишь ты моего Арсения и что он тебе пришелся по сердцу, ибо приехал я сюда по его делу. И поелику ты о нем говоришь такое, чаю, что дело это у нас сладится.
— Какое же такое дело? — насторожился Хотет, начиная догадываться.
— Хочу сватать для него дочь твою, княжну Софью. Они друг дружку полюбили крепко и, чаю, будут хорошей парой, коли дашь ты им свое благословение, как я свое даю.
Иван Мстиславич, хотя уже и ожидал этого, на мгновение растерялся, не зная что, верне, е как ответить. Всякого татарина, даже самого знатного, он ставил в душе неизмеримо ниже себя, а к тому же два дня тому назад получил от Михаила извещение о том, что Софью будет сватать Моложский князь, и этим был отменно доволен. Помолчав немного и собравшись с мыслями, он сказал:
— Не обессудь, Иван Васильевич, но хочешь ты невозможного. Знаю, ты человек достойный, и я тебя вельми уважаю. Сына твоего тоже хвалил я без лести и снова скажу: всем он хорош. Только что ни говори, а ведь вы татары и дочери моей он не ровня.
— Будь мой сын мусульманином, я бы с тобой в том не спорил, — спокойно возразил Карач-мурза. — Но он, тако же, как и я, давно принял святое крещение, стало быть, вера нас ныне не разделяет.
— Пусть так. Но я не о том говорю.
— А о чем же еще?
— Не ровня он ей по крови.
— Ну, это ты напраслину молвил, Иван Мстиславич. Коли говорить о его татарской крови, то и она не хуже твоей: и мать его, и бабка царского роду, из коего немало жен высватали русские князья.
— Может, по нужде и высватали. А у меня такой нужды нет, и я дочь свою отдам токмо за русского князя.
— Рад это слышать, Иван Мстиславич. Коли так, мы с тобою, наверно, поладим, ибо сын мой, как и я, тоже русский князь, да к тому же такого роду, который ты без сумнения выше всех иных ставишь.
— Вона! Какого же этого вы столь славного роду?
— Роду князей Карачевских и Черниговских, того же самого, что и ты, токмо лишь старшей ветви.
— Ты что, Иван Васильевич, меня за глупца почитаешь, али сам внезапу потерял разум? — воскликнул пораженный Хотет.
— Ни то, ни другое. Я тебе истину говорю. Я сын родной и законный князя Василея Пантелеевича, у которого прадед твой Тит Мстиславич отнял Карачевский стол, след чего род ваш Козельский тут и вокняжился. И ты мне по боковой ветви племянник.
— Откуда же ты вдруг татарин? Э, полно, Иван Васильевич, плетешь ты невесть что и мыслишь — так вот я словам твоим несуразным и поверю!
— Коли не веришь словам, поверишь вот этому, — промолвил Карач-мурза, протягивая собеседнику небольшой свиток пергамента, который достал он из бокового кармана.
— А это что такое? — спросил Хотет.
— Духовная грамота [566] предка нашего Мстислава Михайловича, первого князя Карачевского и Козельского.
— Как же она у тебя оказалась?
— Передавалась она старшему в роде, вместе с Карачевским столом, и мой отец получил ее от своего отца, когда вступил на великое княжение в нашей земле.
Хотет с недоверием взял пергамент, развернул его и медленно, букву за буквой, стал разбирать выцветшие от времени слова: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа: — се яз, раб Божий Мстислав, а во святом крещении Михайло, княж-Михайлов сын и князь земли Карачевской»… Дочитав до этого места, Иван Мстиславич быстро перевел глаза на подпись и на висевшую внизу красную восковую печать с изображением архангела. Все так… «Вельми дивно сие, а видать, не солгал татарин», — подумал он и снова углубился в чтение. Вначале содержание грамоты его почти не интересовало, — это было перечисление уделов, которые князь Мстислав Михайлович завещал четырем своим сыновьям, и общие им наставления. Но дойдя до того места, где говорилось, что в случае бездетности старшего из братьев — Святослава, на великом княжении в Карачеве утверждается род второго брата — князя Пантелеймона, Хотет почувствовал, что его бросило в жар: он вдруг сообразил, что сейчас не ему, потомку третьего брата Тита, а именно этому «татарину» по закону надлежало княжить в Карачеве.
— А князю Витовту ты эту грамоту показывал? — спросил он, быстро вскинув глаза на Карач-мурзу.
— Нет. Зачем бы я стал ее показывать? Карачевского стола я не домогаюсь, а то, что узнал ты обо мне сейчас, князь Витовт уже давно и без грамоты знает.
«Ага, значит, сунулся ты к нему, да вместо княжения получил шиш», — с облегчением подумал Иван Мстиславич. Ему стало ясно: если Витовт, зная о правах Карач-мурзы, до сих пор не передал ему Карачева, стало быть, он вообще не собирается этого делать. Почему — Хотет тоже уразумел: «Не меня, вестимо, жалеет, а Юлиану Ивановну». Эта догадка довершила его раздражение, и он сказал почти с вызовом, возвращая грамоту Карач-мурзе:
— Ну и чего же ты от меня теперь хочешь?
— Ничего не хочу, опричь того, за чем приехал: руку дочери твоей прошу для сына моего Арсения.
— Я уже сказал тебе, что за него Софью не отдам.
— Сказал, что не отдашь, поелику он не русский князь. Ну, а теперь сам видишь, что в том ты ошибся. Так что же еще?
— А то, что за другого русского князя хочу ее выдать.
— И он уже ее посватал?
— Посватал или еще посватает, то не важно. Такова моя воля родительская, и все тут!
— Стало быть, дочери своей ты счастья не хочешь? Ведь она Арсения любит, а не того другого князя.
— То не любовь, а блажь пустая! Выйдет, за кого я велю, а там и полюбит. С девками всегда так.
— Это твое последнее слово, Иван Мстиславич?
— У меня слово токмо одно, оно и первое, оно и последнее. И на том не гневайся, Иван Васильевич.
— Ну, коли так, будь здоров. Жалею, что тебя зря потревожил, — поднимаясь с места, промолвил Карач-мурза.
— Куда же ты? Хоть отобедай с нами.
— Благодарствую, княже, спешу в обрат. Оставайся с Богом!
Когда Карач-мурза сообщил сыну о неудаче своего сватовства и посоветовал ему забыть княжну Софью, Арсений только нахмурился и ничего не сказал. Хотя удар был жесток, он сдаваться не собирался, но посвящать отца в свои дальнейшие намерения не хотел, справедливо опасаясь того, что они не встретят одобрения, а тогда пришлось бы отказаться от Софьи или идти на открытое нарушение отцовской воли. Ни того, ни другого Арсений, разумеется, не желал, а потому решил действовать теперь на свой собственный страх и риск.
Но Карач-мурза хорошо знал сына и не сомневался в том, что он на этом не успокоится и будет добиваться своего, вопреки сумасбродной воле князя Хотета. Не считая возможным открыто одобрять подобный образ действий, но в душе сочувствуя Арсению, он тоже предпочел не вызывать его на откровенность и сделал вид, что почитает это дело оконченным, а потому не хочет больше и говорить о нем.
Наутро следующего дня Арсений поскакал в Карачев: прежде всего надо было поговорить с княжной.
«Коли она меня крепко любит, — думал он, — пускай у Хотета язык загорится, а все одно мы поженимся. Ну а если я ей не столь люб, чтобы ради того отцовский запрет порушить, тогда… поглядим!»
Приехав в город, когда уже темнело, он приблизился прямо к своей лазейке и, привязав коня снаружи, проник в княжеский сад. Тут, вытащив из кармана зеленый лоскут, он хотел положить его в условленное место, но, заглянув в дупло, обнаружил там белый платочек, видимо, совсем недавно оставленный Софьей. Эта находка несказанно его обрадовала: значит, несмотря на все, и она хотела говорить с ним! В том бы ей нужды не было, если бы она смирилась перед отцовской волей и не чаяла иного пути, как под венец с нелюбимым. Стало быть, не смирилась, любушка!
Бережно спрятав на груди платок, хранивший еле уловимый запах резеды, Арсений сунул в дупло зеленый лоскут, чтобы княжна знала, что он уже здесь, и отправился ночевать на постоялый двор.
На следующий день, после обеда, когда княжна появилась в саду, Арсений уже давно был на месте. Увидев ее и убедившись, что вокруг нет ни души, он вышел из-за кустов и хотел приблизиться к ней, но Софья поспешно сказала:
— Всеми святыми тебя молю: оставайся скрытым! Это место тем и хорошо, что оно из терема не видно. Коли кто выглянет оттуда и увидит меня одну на скамье, будут спокойны и нас не потревожат. А ныне надобно сугубо блюсти осторожность: родитель намедни сказал, что ежели еще что заметит или уподозрит, в тот же час отошлет меня в Вильну, к бабке.
— Он тебе говорил о том, что отец мой приезжал тебя сватать? — спросил Арсений, снова прячась в кустах.