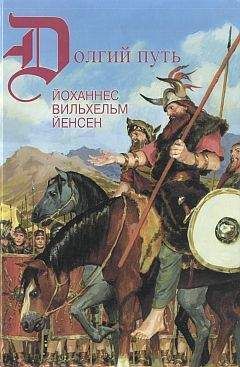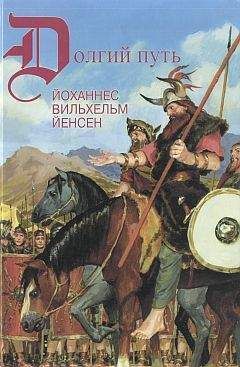Миккель Тёгерсен вошел в город через мост со стороны Сённермальма. Он услышал колокола, он вступил в город и побрел по его улицам. Никогда прежде он не замечал, как низко ходит по земле пеший человек, никогда еще он с такой остротой не ощущал себя на самом дне своей подневольной жизни, так низко, что дальше некуда. Жалкие домишки больше возвышались над землею, чем он, бредущий у их подножия; он взглянул снизу на громады деревянных строений, низко склонил голову и поплелся дальше, точно вол, влекущийся под гнетом ярма. У подножия домов с одной стороны улицы тянулась сточная канава, полная стоялой бурой крови, которая стекла сюда с площади. Дул ветер, и воздух до самых высот казался истощенным от лютого холода. Холодно было, холодно!
Миккель прошел через площадь, где грудой лежали казненные, целая гора совершенно неподвижных тел; он направился к церкви святого Николая.
На паперти закопошились хворые и калеки и устремились навстречу Миккелю, боясь, как бы не опоздать со своим убожеством; подымаясь со ступеней, они трясли своими лохмотьями, и оттуда пахнуло тяжелым духом гноящихся язв.
Один, одетый в белую суконную рвань, показывал свои беспалые, прежде времени истлевшие руки, протягивая за подаянием вместо них свои губы. Ощупью приволокся на звук мальчик с глубокими кроваво-красными язвами вместо глаз. Другой молодой калека приполз по ступеням, толкая перед собой доску с двухпудовой тяжестью своей раздутой, как бревно, ноги, от которой разило тепловатой вонью воспаленного тела. Воздух над папертью был нагрет от густой испарины горячечных больных.
Но внизу ступеней, в сумрачной тени под церковной стеной, сидело существо, представлявшее собой мешок тряпья да голову. У него было женское лицо, раздутое и перекошенное водянкой, существо было безного и безруко, и только глаза — жили; вот оно устремило прежде потупленный взор вверх, и когда Миккель глянул вниз с состраданием, он содрогнулся при виде злобного выражения этих глаз; из них прыснула на него звериная злоба, лютое зложелательство ко всему свету.
При входе в церковь на Миккеля повеяло запахом ладана, высокое пространство воздвигалось над его головой, сквозь загадочный сумрак пробегали таинственные блики по мощным каменным плитам, негромко гудел орган, стая звуков витала вверху под темными сводами. Лишь кое-где на торжественно убранных алтарях горели свечи.
Миккель не пошел дальше порога, он стал в уголке у входа и, чувствуя, что ноги подламываются от усталости, уселся в темноте прямо на полу. Он закрыл глаза.
Тихо гудел орган. От этих звуков Миккелю делалось и легче, и в то же время тяжелее на душе. Такова уж его всегдашняя судьба — быть отверженным, оставаться за порогом. Поэтому и целительная музыка слышна ему приглушенно, из отдаления. Он бесприютен, и нет ему пристанища.
Не успел Миккель это подумать, как в тот же миг звуки вдруг хлынули во всю мощь, точно во всю ширь отверзлись закрытые врата! И, ликуя, вознесся в вышину звонкий хор, зазвучала песнь. Все тонкие трубы органа запели ее в полную силу, молодыми и чистыми голосами, под траурный рокот и задушевные бархатные ноты басов. Песнь ширилась и росла.
И Миккель умилился в сердце своем.
— Господи Иисусе! — возопил он. И он открыл свою душу всесильному. И почувствовал тогда, как растаяло бремя его одиноких лет.
Да, он был одинок. Но одинокий обречен, и однажды это непременно обнаружится. В бессвязном потоке времен вязнет мысль; ясность и простота все дальше отступают и покидают тебя. Могучие силы, которые ты в себе ощущал и которыми так гордился, словно никто на свете не может сравниться с тобой, ныне подорваны сомнением: что значит твое воображение, если миру сему оно не опора? Ты таков же, как все прочие, — не сильнее других, но среди всех ты пребудешь один как перст, судьба твоя — быть одиноким.
И что же с тобою стало? Куда подевалась природная доброта твоего сердца, глубокая потребность творить всем добро, потребность, которая в юности не давала тебе спать по ночам? Жизнь не дала тебе утолить могучее стремление к счастью, она понудила тебя к ненависти и мести, и ты стал бесприютным скитальцем. И тогда ты возмечтал, что сыщешь себе пристанище на чужой стороне и там на свободе сможешь горевать; хотя бы выплакать, на худой конец, свою непонятную болезнь. Но и то не сбылось, жизнь и тут не дала утешения, не позволив щедро излиться неистощимому кладезю страданий и слез.
Струится органный поток, утоляя печаль. Наконец-то слились горе и радость в блаженстве тоскующего плача. Звуки псалма врачуют дух, навевая целительные видения. И сердце вдруг шелохнулось в груди, словно плод во чреве, словно наделенный собственной волей еще не рожденный младенец.
О! Как светло и упоительно поют прозрачные голоса; орган взывает, и гремит, и лепечет, и все, даже звериные, голоса звучат в его музыке, все безгласное заговорило первозданными голосами, слышны трубы судного дня и белые флейты, поющие в райских кущах.
И тут вдруг открылся проблеск света и осветил дорогу, ведущую из царства смерти в страну великого лета. Сбираются туда все погибшие из городов и с полей сражений, бредут пахари, бросив свой плуг, и моряки, причалив к берегу, покидают корабль, встают из могил погребенные, и все стекаются в толпы, чтобы идти этой дорогой.
Хладный ветер несбывшихся надежд свищет вокруг. Они идут за милосердием, ибо в жизни не знали ничего, кроме горя. И стоит в толпе скрежет зубовный, и тысячи проливают слезы и ломают руки, ибо горько жилось им в земной юдоли. И летит в вышину вопль страдания от идущей толпы, и, обратив бледные лики к звездам, молят они у звезд милосердия.
С враждебной земли поднимается стон бренного творения, вой всего, что подвластно губительному времени. И поет-завывает ветер о вечном земном увядании, о бренности всего сущего. Это самый холодный ветер из всех, что гуляют по свету, жало его пронзительней зимних стуж, в нем слышится призвук шелестящих льдистых иголок, что вальсируют в снежных тучах, в нем проносится эхом топот копыт, отзвуки смеха и жизни, уже минувшей; это — целый концерт, унылый и тихий! Чу! Вот под сурдинку слышится стук костей, и самый сокровенный звук всей этой музыки похож на шорох, доносящийся из гроба.
Тише! Вьюга взыграет в душе у тебя, коли осмелишься мыслить; забвение дохнет на тебя леденящим хладом. И в памяти зимней остается только метельная песня снегов. Словно острое жало вопьется в твое сознание несносная мысль о мраке.
Так внимают бедные земные изгнанники, и страх их объемлет. Они жмутся поближе друг к другу, но не от взаимной приязни, а скорей словно стадо, оставленное пастись на безлюдном островке, — во время осенней бури скотина выходит на самый край моря и, вытянув морды к желанному берегу, ревет, призывая на помощь.
Жизнь здесь проходит в полумраке, изгнаннику негде согреться, он всеми покинут и не знает дружеской ласки. Кто мерзнет сам, заботится о том, чтобы его ближнего тоже хорошенько просквозило; кто страдает в нужде и лишениях, тот по капле вливает яд зложелательства в сердце собрата по заточению. Долго тянутся тревожные ночи для одинокого, для беззащитного.
Но Миккель узрел царя всех страданий! Он расслышал его в музыке псалма. Он увидел, как Господь и Спаситель принимает под свою защиту всех безутешных; одного за другим он подбирает их с дороги, Бог не брезгует их наготой. Милосердный Спаситель дарует бедным утешение, согревая своим теплом. Узрел Миккель, как всем обремененным душам воздается по их заслугам и они, воспрянув, причащаются славы Господней. Льется на них музыка. И зрит Миккель всех, кого он знал в своей жизни, все собрались тут вместе, кого растерял он с годами: удрученные лица, которые он мельком заметил среди павших на поле сражения, вновь перед ним, ныне они воспряли. Зрит он отца своего Тёгера Нильссена представшим пред Богом в изувеченном старостью обличье — полновесно свидетельствуя телом своим. Он зрит отверстые небеса, и в сердце своем сокрушается он перед Богом. На коленях он выползает на середину церкви и там падает ниц.
Шел снег. Большая площадь в Стокгольме покрылась мягким, сияющим белизною ковром, а снег все сыпал с вышины равномерным потоком. Еще на город не спустилась тьма, но в окнах уже засветились огни.
По всем улицам, выходящим на площадь, туда устремился по-праздничному нарядный народ; топча первый снег, они сходились к высокому крыльцу городской ратуши. Ратуша сияла ярко освещенными окнами, город Стокгольм давал банкет в честь короля Кристьерна. Едва приглашенные встали из-за столов и зал освободился, туда хлынула молодежь, которая давно уже теснилась за дверью, дожидаясь своего часа. Начинались танцы.
И вот заиграла музыка. Аксель первым вышел на середину. Он самозабвенно проплясал целый час, без памяти отдаваясь перипетиям танца, не заботясь о том, кто их с ним разделяет. Почувствовав жажду, он спустился вниз и по пути выглянул на улицу, там было темно, как в печной трубе, белый рой снежинок впорхнул в открытую дверь, словно стая мотыльков, летящая на свет. Аксель вышел на улицу и пустился по ним за несколько кварталов проведать расхворавшегося Миккеля. Миккель слег неделю тому назад, и, по всей видимости, дела его обстояли неважно.