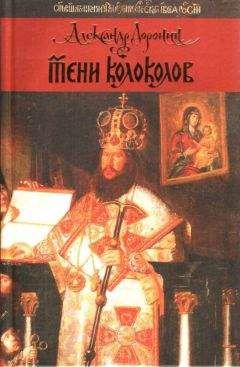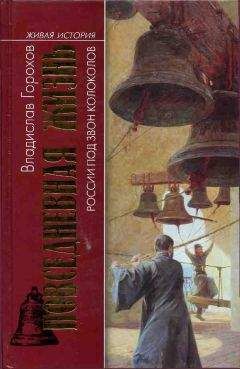— Что, болит? — в голосе Тикшая слышались жалость и злость.
— Спина-то заживет, сынок, прочнее шкура будет. А вот душа когда зарубцуется? Жизнь наша хуже собачьей, под ногами у бар валяется.
— Сами себя так унизили. Если есть князь или с лапотным ртом управляющий, тогда, выходит, перед ними ползай? Ведяскина вчера я встретил, чуть не переломал ему кривые ноги. Всё равно издевательства над людьми ему даром не пройдут. Когда-нибудь он заплатит за это.
— Ох, сынок, не лезь ты в это дело. Молодой ещё, горячий. Вот поживешь, ума наберешься — тогда другое дело, — осадил сына Инжеват, а про себя напугался услышанных гневных слов, в них было что-то такое, что угрожало его жизни. Помолчал немного, ещё тише добавил: — Ты бы, сынок, к Агафье зашел за лекарством или спросил бы, из каких трав отвар приготовить. Боюсь, кровавые рубцы от кнута все силы мои возьмут.
Тетки Агафьи, мачехиной сестры и матери Мазярго, Тикшай боялся, потому что знал: та не одобряет встреч своей дочери с ним. Один раз даже Мазярго ему сказала: «Ты, Тикшай, русским богам преклоняешься, а наши боги другие, поэтому мать и не верит тебе. Смотри, в дом к нам не заходи — водой Вирявы обольет». «Это ещё что за вода?» — посмеялся тогда Тикшай. Мазярго грустно и осуждающе посмотрела на него, покачала головой и сказала: «В дубовом лесу есть неведомое дерево, из-под корней его бьет целебный родник. Его водой мать искривленные души выпрямляет!» «Тогда, выходит, и моя душа кривая, если она думает облить меня той водой?» На это девушка ничего не ответила, только, остановившись под своими окнами, шепнула ему: «Я каждый день хожу искать целебные травы…».
Тикшай ничего не успел ответить отцу на его просьбу, как зашел дядя Прошка. На нем чистая рубаха, подпоясанная новым витым поясом, с кистями, на ногах новые лапти.
— Ты куда это собрался, не жениться? — засмеялся Инжеват, потом понял, в чем дело, виновато добавил: — Я с тобой собрался бы, да сам видишь — лежу.
— Как-нибудь уж мы сами. Да на богов надеемся, что помогут… Ну, так я пойду, — Прошка потоптался и ушел.
— Это куда он так принарядился? — удивился Тикшай. — Таким я его никогда не видел.
— Послезавтра, сынок, Озкс-день. Половина лета уже прошла — колосья все на тонких стебельках трясутся. Помолимся, возможно, Верепаз нам новую благодать подаст. Это нам нужно сделать тайно: узнают княжьи люди — хорошего от них не жди. К своему богу Христу притягивают нас. Многие эрзяне молятся уже ему, — и ещё тише добавил: — А сейчас придется уйти. В домах должны остаться одни женщины да грудные дети. Разве забыл об этом?
— Куда уйти? — нехорошо стало Тикшаю от услышанного.
— Пойдем овин уберем… — кряхтя от боли в спине, Инжеват с трудом встал с лежанки.
* * *
После ухода мужчин Проска затопила печь. На сухих березовых поленьях огонь плясал десятками языков. Женщина не тянула время — поспешила в подвал. Вскоре вернулась оттуда с двумя глиняными горшками. В одном несла белую муку, а в другом — пшено. Развязала фартук, оттуда скатился на стол шар сливочного масла. С полки достала сшитые вчера холщовые мешочки и начала наполнять их мукой и пшеном. В каждый насыпала по три фунта. На моление решила не ходить, поэтому свою долю не положила.
Наполнила мешки, вытащила две тесемочки разных цветов. Белой завязала мешочек с мукой, желтой — где была крупа. Шар сливочного масла положила рядом с ведром холодной воды — так дольше не растает.
Дрова, треская, горели, обжигали всю кухню жаром. Пора уже чугуны со щами и кашей ставить. Проска подняла ухват, и как раз в это время постучали в дверь. «Смотри-ка, ранней зарей сборы начались», — удивилась женщина, сама быстро зажгла лучину, спустила с плеч рубаху, до пояса голой осталась. Стыдно, да ничего не поделаешь, таков обычай. У нее, как у всякой нерожавшей женщины, спелые упругие груди с маленькими аккуратными сосками. Проска прикрыла их руками и вздрогнула всем телом, когда в дверь вонзили нож и мужской грубоватый голос пропел:
— Хранительница дома Юртава, даруй этому роду счастье и долгую жизнь!
Кто-то тяжело, будто медведь, вошел в сени, и заскрипели половицы. Проска повернулась боком, скосила взгляд: у порога с двумя лукошками стоял Киуш Чавкин. Бесстыдный он человек. Многих женщин прошел и давно ластился к ней.
Проска попятилась назад, к столу, на ощупь нашла приготовленные мешочки, развязала их и снова попятилась, теперь уже к пуредею.
— Говори, не стесняйся! — засмеялся громко Киуш.
Проска друг за другом встряхнула мешочки, завязки быстро бросила на шесток, чтобы не попали в мужские руки. Попадут — Юртава беду нашлет. Вспомнила о масле. «Вот безмозглая! — поругала она себя в мыслях. — Как сейчас его доставать?» Пришлось ей повернуться к Киушу лицом. Они встретились взглядами. На нее смотрели не мужские, а голодные глаза бродячего кота. Проска нагнулась за маслом, груди ее встрепенулись двумя испуганными голубками.
— Криволобый, не стыдно тебе смотреть? Я, чай, замужняя женщина, — разозлилась она, и лицо ее маковым цветом запылало. Схватила масло и, не прикрывая груди, с размаху бросила его в большое лукошко, будто камень в собаку.
— Оно и в муке не испортится! — во весь рот расплылся Киуш и, подскочив, ущипнул женщину за сосок. Та от острой боли аж подпрыгнула.
— Я тебя всё равно в овин унесу! — пуредей приподнял тяжелое лукошко и, скрипнув дверью, громыхая, вышел. Из сеней вновь раздался его голос: — Меду и денег для покупки быка ты не дала — за ними через неделю зайду…
Проска быстро натянула рубаху, трясущимися руками стала искать завязки запона. Потом приоткрыла оконную дыру, заткнутую подушкой, посмотрела на улицу. Перед домом стояли четыре повозки и четыре мужика. Телеги были уставлены разного размера кадушками. После обхода села мужчины отвезут их в Репештю варить пиво и брагу.
Киуш высыпал всё взятое у Проски в большие кадушки и с пустым лукошком направился в соседний дом. Проска вернулась к печке, завязки кинула в пламя — пусть горят, все обиды уйдут из дома. Потом в раздумье дотронулась до своей груди. И неожиданно из глубины души поднялась злость на Инжевата, который был старше ее на двадцать лет. «Месяцами не спит со мной, а я всё мужней женой себя считаю. Хоть под кривоногого Прошку ложись! — от этих мыслей даже слезы на глазах выступили. И, будто в грех вошла, стала молится: — Прости меня, Юртава, глупую бабу! Хочется счастья, а жизнь, как вода в песок, уходит».
Только пылающий огонь печи услышал ее сокровенные слова. Разве он поймет человеческую душу? Да с печки спрыгнула кошка, присела около нее на широкую лавку, капризно замяукала.
— Эту, бешеную, не обманешь, — вслух застонала Проска, глядя в кошачьи глаза. Они были такими же, как и у Киуша, желто-зелеными искрами сверкали.
Зажгло в груди у женщины так сильно, будто пламя печи заполыхало и там.
* * *
Лесная поляна была похожа на сказочно красивый рай. С четырех сторон опоясана стройными березками, над ними синеет бесконечное небо. А под ногами — ковер из цветов и папоротника.
Неустанно поют где-то в вышине невидимые жаворонки, а в глубине леса подсчитывает человеческие лета кукушка. Только где ей, бедной, подсчитать годы — на поляне половина села собралась! От мала до велика пришли, и все — в белых одеждах.
Подул ветерок — поляна заиграла всеми цветами радуги. Цветы, трава, небо и белоствольные березы словно кружились в одном медленном хороводе, вовлекая людей, гудящих на поляне как пчелы. Многие собрались в ложбинке за поляной. Там, в тени старых дубов, струится родничок, а вода в том родничке целебная. Холодная, аж зубы ломит, но никогда не накажет простудой или кашлем, сколько ни пей. Говорят, вода эта излечивает от многих болезней. Сюда приезжают ворожеи и знахари, воду с собой берут. А уж больных тут сколько побывало! Вон Агафья дома на ноги не может встать. Муж, Кечай, ее на коляске самодельной привез. На траве расстелил медвежью шкуру, посадил больную…
Репештя — не просто поляна, опоясанная березняком. Здесь молились Верепазу и другим своим многочисленным богам ещё древние эрзяне, прапрадеды нынешних. Поляна окружена прочным забором из ивовых ветвей. В нем трое ворот. Одни открываются на восток, другие — на север, третьи — на запад.
Когда люди собрались, прошли через ворота, обращенные на восток. Поклонились небу и земле. Женщины с детьми расселись на середине поляны, мужчины и парни встали вдоль изгороди. Тишина вокруг. Смолкли разговоры и смех. С одиноко растущего почти на середине поляны дуба на землю спустился жрец, старейшина Вильдеманова Пуресь Суняйкин. Острым взглядом окинул всех собравшихся. Приятно стало старику: люди нарядны, на лицах свет надежды играет. На душе у Пуреся тоже празднично. Он величественным жестом руки обвел вокруг себя пространство, громко и торжественно произнес: