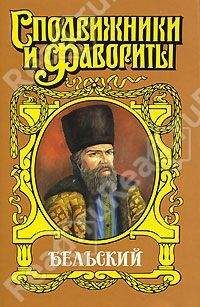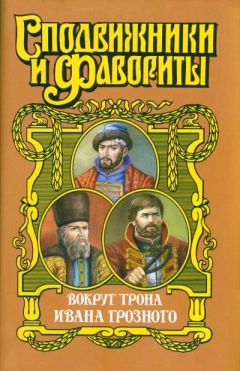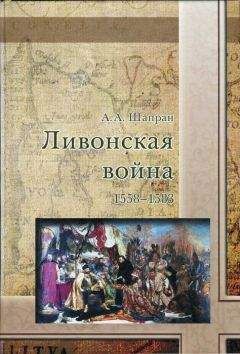Еще немного сближения, и братия затянула заупокойную молитву, да так слаженно, с такой тоскливостью, что невольно наворачиваются на глаза слезы. Даже у видевших виды и зачерствевших душой суровых мечебитцев.
Уперлись друг в друга крестный ход и траурный поезд, шапки и шеломы долой; голоса ратников и ездовых вплелись в монашеский хор, внося корявость и суровость в поминальный мотив, но это никого не покоробило, ибо все поддались святости момента.
Пение псалмов окончено. Дюжина монахов-чернецов подошла к розвальням, на которых везли гроб, двое из них взяли на плечи крышку, а остальные подняли сам гроб, и под возродившееся пение братии процессия двинулась неспешным шагом в монастырь, чтобы положить покойного в Успенский храм. Там, сменяя друг друга, станут читать молитвы над усопшим, а утром отпоют его и опустят грешное тело в грешную землю.
И вот тогда это случится, когда не очень аккуратный холмик из смерзшейся земли поднимется над могилой и когда воткнут будет временный деревянный крест с дощечкой: «Раб Божий Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский упокоился в 1573 году от Рождества Христова», — Богдан с оголенной остротой почувствует себя совершенно одиноким, неприкаянным, потерявшим в расцвете сил нить жизни.
Чуть-чуть взбодрился он лишь после второго поминального кубка фряжского вина, хандра, однако же, никак не желала вовсе отступать, не позволяя думать ни о чем, кроме своего горя-несчастья, и сразу же после поминок он ушел в свою келью, как официально назывался специально для него построенный терем в глубине двора. Терем не велик: опочивальня, гостиная, трапезная, сени для путных слуг и теремная церковь-придел. Уютно в ней, маленькой церкви с богатым иконостасом и не потухающей никогда лампадкой под распятием Иисуса Христа. Уединился надолго.
Но не молился. Решал, как жить дальше. И вот — искушение: забрать с собой казну, что в этом монастыре, и податься в Белый. Да, он не из перворядных Бельских, но и у него есть в том уезде вотчина. Довольно приличная. А на случай чего, есть там пара дюжин боевых холопов, а если еще с собой возьмет полусотню, будет возможность отбиться от приехавших по царскому указу оковать его, Бельского, и переметнуться в Польшу. Благо, до нее рукой подать. С удовольствием примут его там, как приняли Курбского, Вишневецкого и многих других. Тем более, что не с пустыми руками появится.
Мысль на первый взгляд стоящая, но как в конце концов определил Бельский после долгих раздумий, скороспелая. Лучше повременить.
И вот — окончательное решение: отпускает прибывшую с ним охрану траурного поезда, сам остается якобы в монастыре замаливать грехи и справлять поминки по схороненному дяде до сорокового дня; на самом же деле укроется в своей Приозерной усадьбе, о чем будет знать только настоятель монастыря, который должен будет оповестить загодя в случае опасности. А к бегству оттуда по лесным дорогам подготовиться заранее.
«Возьму пару височных подвесок и пару монист для дев своих и завтра в дорогу».
Не думал он в тот час о юной жене, о ее судьбе ни вдовы, ни мужней жены, когда он переметнется в Польшу; перед вожделенным взором представали в полной красе пригожие холопки, одна из которых предназначена тереть барину спину в бане, а другая согревать в постели.
Вышел из теремной церкви обновленным, сбросившим с себя непомерный груз тоски и велел звать к себе начальника охраны траурного поезда. Повел твердо:
— Завтра — в обратный путь. Обо мне скажете первому воеводе, а если спросит царь Иван Васильевич, то и ему, что остался я молиться за упокой души дяди своего и поминать до сорокового дня. Все. Собирайтесь в дорогу.
Подождал, не воспротивится ли сотник, имея какое-либо тайное поручение, не получил ли наказ непременно доставить его, Бельского, пред очи царские. С напряжением ждал. И вот — гора с плеч.
— Воля твоя, барин. С рассветом — в седла. Архиепископ одарил нас щедро из царского вклада на помин души Малюты Скуратова.
Понял Богдан намек.
— От меня тоже по золотому. Тебе, сотник, два.
Предлог побывать в подземной клети, где хранится казна. Давно не заглядывал туда. Даже не представляет, сколь много там золота и серебра, мехов дорогих, оружия и доспехов парадных, одежд золототканых. Много он отсылал в монастырь всего, частью, как вклад в обитель, частью на хранение. В честности монахов он нисколько не сомневался, получая всякий раз отчет, что все принято и надежно сохраняется.
Повел в казнохранилище Богдана великосхимник Симеон, имевший послушание держать под отчетом своим кладовые с казной. В руках его — факел. Богдану же дал в руки толстую свечу.
Десять ступеней вниз. Окованная дверь с амбарным замком, но не ржавым от сырости, как полагал Бельский — удивительно сухо в подземелье. Да и воздух чистый, вроде бы проветрено здесь.
Без скрипа открылся замок (смазан, значит), и вот — комната подземная. Просторная. Стены кирпичной кладки на извести.
«Оттого и сырости нет», — оценил Бельский.
Вдоль левой стены — стойки с крючками, на которых висят глухие льняные мешки с туго стянутыми горловинами. Вдоль остальных стен — дубовые кадушки и кованые сундуки.
— Изволишь, боярин, на меха взглянуть, — указал рукой великосхимник на ряд стоек, — порадовать глаз?
— Нет. Давай отсчитаем для сотни по золотой деньге, а я возьму по паре височных подвесок и ожерелий речного жемчуга.
Прошли к кадушкам, в которых хранились золотые и серебряные деньги. Много кадушек. Все с забитыми крышками. Но вот — последняя. Лишь прикрытая крышкой. Она не заполнена до отказа.
— Вот отсюда и возьмем.
Великосхимник отсчитал сто два рубля для ратников, еще дюжину для возничих, и перешли они к сундукам.
— Жемчуг вот в этом, — указал великосхимник на один из сундуков и отпер его массивным ключом.
Красота неописуемая. Даже у самого Богдана, привыкшего к украшениям и своей жены, и иных знатных жен, когда они обносили чарками гостей, глаза разбежались. Едва сумел выбрать он именно то, что ему было нужно.
Заперт этот сундук. Отперт второй, с украшениями из золота и драгоценных камней. И тут глаза разбежались: какие из подвесок взять?
— Возьми вот эту и вот эту, — подал подвески монах. — Угодишь подарками капризным.
Богдан хмыкнул. Любым будут несказанно рады холопки.
На следующий же день после отъезда ратников покинул монастырь и Бельский с путными слугами и боевыми холопами, определив все положенные поминки по покойному дяде справлять у себя в усадьбе. В монастыре же оставил двух верных холопов, чтобы архиепископ имел их под рукой и мог послать с вестью в любой час.
Всего верст тридцать от монастыря до деревни, которая стояла возле усадьбы Богдана, но дорога малоизъезженная, поэтому путь оказался и утомительным, и долгим. Вроде бы, бесконечный. Устали и кони, и люди, но когда повстречались с управляющим, который с дюжиной боевых холопов выехал встречать хозяина, все приободрились. Стало быть, скоро конец глубокоснежной дороге, хотя все знали, что до усадьбы оставалось еще добрый пяток верст.
Вот, наконец, и деревня. Стар и млад перед околицей встречают низким поклоном боярина (здесь иначе его не называли), и Бельский, спешившись, поклонился холопам своим ответно.
— Здравствуйте, кормильцы мои. Мир вам и покой.
Ушанку соболью, правда, не снял. И без того почтил знатно. Теперь о том, что сам боярин кланялся им, станут судачить все оставшиеся зимние вечера, до самой весенней страды.
Впрочем, он подобным манером поступал во всякий свой приезд. И в ворота усадьбы, укрытой за высоким дубовым оплотом, никогда не въезжал верхом. Всегда перед ними спешивался. Не изменил своему правилу и теперь, а дворне, которая столпилась перед теремным крыльцом словно на смотрины, поклонился ниже обычного — в его положении нужно было выказывать знаки внимания слугам и холопам, чтобы иметь от них ответную доброжелательность и искреннюю заботливость.
И вообще, с дворней и боевыми холопами он — ласковый хозяин. Такова его жизненная установка, поэтому и встречают его во всех его имениях с радостью и безбоязненно, а более с надеждой быть одаренными барской милостью.
Здесь он тоже намеревался завтра же выслушать челобитников, если таковые будут, и исполнить все их просьбы. Не забывал, однако, и о себе. В тот же вечер наказал управляющему держать в тайне его приезд.
— Постарайся не наряжать в город никого. Особенно в первые пару недель. Если же такая нужда возникает, предупреди, чтобы языки в городе не распускали. А еще лучше: отправляй под приглядом.
Впрочем, и это не внове. Боярин в каждый свой приезд заботился о скрытности.
Дальше все пошло по-проторенному: баня с девой, которую называл не иначе, как Ладушкой, пир до полуночи, опочивальня, где тоже ждала истомившаяся Любаша, а утром — рыбалка: вытаскивание сети, битком набитой рыбой, через окна во льду.