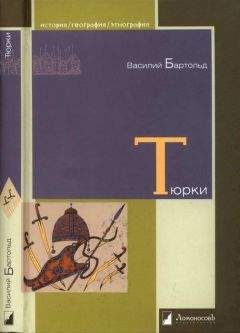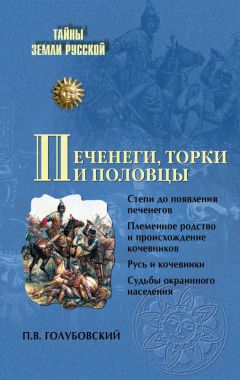И князь Михаил Всеволодович после расспроса гонца сказал Ингварю о том же:
— Один ты остался на всю Рязанскую землю, княжич. Тебе там и княжить пристало. Мужайся! Минует лихолетье, уймутся нечестивые — земля запросит устроения. А кто же, кроме тебя, пригреет сирот и утешит вдовиц, кто соберет бежавших в леса и дебри и вновь построит на пепелищах села и города?
Семь дней не выходил из своей горницы Ингварь, допуская к себе лишь прислужника отрока. Целыми днями ходил он по горнице из угла в угол.
В эти дни княжич превратился в князя. И борения двух чувств — жажда отомстить жестоким завоевателем за смерть близких и разорение родной земли и чувства ответственности за будущее края, за дело отцов, положивших много труда и воинской доблести для становление Руси на берегах неведомых дотоле рек — по крупице складывались сила молодого князя и его решимость.
Мстить врагу теперь — значит неизбежно умереть в неравной борьбе.
Князь Ингварь не страшился смерти. Но его потрясла мысль о том, что никогда не встанут рязанские города, на селищах и по избищам вырастут бурьян и жгучая крапива, и возделанные нивы вновь порастут частым ельником…
В городе начиналась робкая весна. Днем с крыш дружно позванивала капель, у порогов и у крылец собирались теплые лужи снеговой воды, а в ночь падали морозы, небо ярко горело звездами, и на месте дневных лужиц образовывались рыжие наплывы льда.
Десна лежала в берегах недвижно. Но с каждым днем все шире разрастались на излучинах темные закраины, прибрежные ракиты и осокори поблескивали капельками пота и чуть заметно розовели…
На восьмой день князь Ингварь приказал отроку готовить его дорожную суму, сказал о том же своим дружинникам, а сам прошел в княжеский терем.
Князь Михаил задушевно простился с гостем, хорошо снабдил его в дальнюю дорогу, дал два десятка запасных коней, а к вечеру приказал попам служить напутственный молебен.
Обнимая последний раз Ингваря, князь прошептал ему, не скрывая слез:
— Проведай перво-наперво мою свет-Евпраксеюшку и поблюди ее во вдовстве. А путь будет, проводи ко мне на Чернигов. Будь ей за место брата старшего…
Весна бежала вслед за малым отрядом князя Ингваря. И хоть скоро шел отряд, но не опередил беспутицы. Под Мченском их перегнали стаи черных грачей. Блестящие под солнцем, словно крытые чернью, птицы садились на рыжие дороги, кружили над полями, давшими широкие проталины, висели на приречных осокорях, уже замочивших корни в чистой воде растополья.
Ингварь все чаще понуждаем был давать своим воинам дневки, и наконец под Дороженом пришлось остановиться надолго: в ночь прорвало лесные овраги, к утру загулял Дон, и мелкий, косой дождь, спустившийся наутро, погнал с полей и перелесков грязный, источенный солнцем снег.
Посадник московского князя, что управлял городом, изо всех сил старался угодить князю Ингварю и все отговаривал его продолжать свой путь: ужас татарского разорения докатился до этих мест, и людям думалось, что в эту весну никто, даже перелетная птица, не потянет в ту сторону, где прошли татары.
Но Ингварь не склонился на уговоры. И как только чуть провяли лесные дороги, покинул стены маленького городка.
За Москвой, на пожарище которой Рязанцы посмотрели издали, они вступили в путь по которому двигалась татарская орда.
Пожженные села, следы огромных становищ с кострищами и стойлами животных, кости и синие, раздутые трупы, зверье, убегавшие при виде всадников, — ко всему этому за один день пригляделись глаза рязанских воинов.
Но что надолго поразило путников и с каждым днем становилось все тягостнее, так это мертвое молчание вокруг.
Им казалось, что все живое исчезло с этой поруганной и растоптанной земли, и то, что чудом уцелело, то обмерло и закостенело заживо. Даже птицы, что тучей носились над становищами татар, над дорогами и пожарищами, даже птицы молчали, позабыв данные им от века голоса и речи.
За два дня пути — от Москвы до Коломны — только один раз повстречал отряд живого человека. То был старый лесной добытчик-смолокур, неосторожно выглянувший из лесной чащи на проезжую дорогу. При виде всадников старик нырнул в кусты, и сколько его не выкликали, не вышел, словно провалился сквозь землю.
Приближение к родным местам после долгого отсутствия всегда волнует сердце. И хоть по прежнему стояла над всей округой свинцовая тишина, воины вздохнули легче, когда переправились через Оку и ступили на исконную Рязанскую землю.
Здесь весна была уже цветиста. Буйно цвела по долинам ольха, ветер приносил из березовых лесов облака пахучей пыли; в борах, пропахших смолой, как свечные огарки, тлели на ветвях сосен молодые, нежные побеги. В чаще беспрерывно куковали кукушки.
От солнца и теплых ветров князь Ингварь стал еще суше и легче. На скулы ему лег тонким золотом загар.
Весна шла на быстрых ветрах, в тонких запахах лесной медуницы, в кружевном шелесте березовых ветвей. В свежие зори долго щелкали в зарослях соловьи, вызывая в груди сладостное томление и прогоняя сон.
И наконец увидел на своем пути князь Ингварь то, что пущих всяких доводов ума укрепило его решимость возродить Русь: На небольшом польце, окруженным низким мелколесьем, шел за сохой пахарь!
Князь удержал и коня и долго следил глазами за движениями пахаря.
Склонившись над сохой, мужик в синей рубахе и в овчинной шапке брел пахотью. С каждым шагом малорослой рыжей лошадки сошник отваливал на сторону черный пласт земли. Над темной бороздой курчавился седой парок. За пахарем длинным хвостом перелетали грачи. Они тыкали в черную землю своими известковыми носами и деловито, молча шагали дальше.
Потом князь увидел тонкий дымок над лесом, услышал еле различимый стук топора и наконец в плотную наехала на живого человека.
То был молодой, лет шестнадцати, бортник. С дымящимся куском трута в одной руке и с топором — в другой бортник только занес топор, чтобы вырубить на корне дуба свою мету, и не успел укрыться. От неожиданности он так и замер с открытом ртом и с занесенным над головой топором.
Ингварь улыбнулся и сошел с коня.
— Промышляешь?
Молодой бортник посмотрел зачем-то вверх, где меж голых еще ветвей жужжали над темным лазом в дупло пчелы, и пробормотал:
— Стало быть, так…
— Давно этим делом занимаешься?
— Занимались батюшка с дедом, да полонили их обоих.
— Татары?
— Они.
— Не боишься в лесу-то?
Бортник опустил топор и расправил плечи:
— Боишься — не боишься, а промышлять надо. Избу строить буду. Вот и бортничаю.
— И иэбу будешь строить? — уже весело спросил князь.
— А как же? Век в лесной ямине не проживешь…
Ингварь оглянулся на своих воинов и указал им глазами на бортника. Потом вынул из-за пазухи кожаную кису и достал из нее золотую гривну.
— Вот тебе от рязанского князя. Крепче строй себе избу, надежнее.
Бортник нерешительно взял гривну, подержал ее на ладони и протянул обратно Ингварю:
— Это нам ни к чему… Избу будем строить топором. Золото князю годится…
Ингварь улыбнулся шире, принял гривну, потом показал рукой на запасного буланого коня, что держал в поводу его стремянный:
— А конь для хозяина пригодится? Вот такой. А?
Бортник принял это за шутку и повеселевшим голосом ответил:
— Кто ж коню не рад, да еще дареному!
Ингварь передал ему повод от коня, потом пустил на своего коня с места в рысь к городку Красному на Осетре.
Молодого князя жители Заразска встретили с ликованием.
Напуганные рассказами о татарских зверствах, люди видели в гибели всех рязанских князей предзнаменование великих горестей для всей Руси. Многие собирались двинуться по весне в Киевскую Русь и осесть где-нибудь на тихих берегах Сейма или Десны. И вдруг появился молодой князь Ингварь!
Из ближних к городку селений два дня сбегался народ посмотреть на князя, а посмотревши, люди становились уверенными в том, что никакая сила не заставит их оставить врагу родные места.
Отряд князя Ингваря, направившегося в сторону пронска, с каждым днем пополнялся все новыми и новыми волнами.
мурома и ерзя — группы, на которые делилась мордовская народность
переводчик
кошель или мешок, затягиваемый шнурком
плен
занимающийся лесным пчеловодством
плащ
горница в княжеском доме
титул, звание
частокол, забор
Каспийское море
мелкий татарский феодал
вестники
услужившие князю за столом