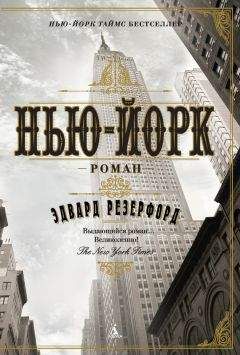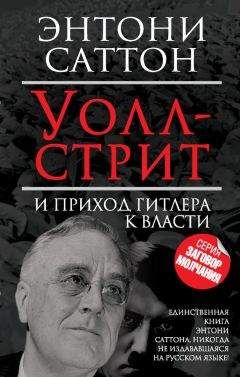– Вот что сделал со мной плантатор, ваша светлость, до того, как я появился у вас, – проговорил я. – И правду сказать, миледи, я убил бы его, если бы мог.
– О, – выдавила она.
– Но в этом доме я не видел ничего, кроме добра. – И я сказал это с некоторым чувством, потому что не лгал. – Если его светлость даст мне свободу, о чем я мечтал всю жизнь, я скорее снова лягу под кнут, чем отплачу ему предательством.
На это она смерила меня долгим взглядом, а потом сказала:
– Спасибо тебе, Квош.
Я надел рубаху, поклонился и вышел.
Вот так и случилось, что в 1705 году я, будучи в возрасте примерно пятидесяти пяти лет, получил-таки вольную. Все сработало по моему замыслу. Ян был добр ко мне, помог арендовать лавку в приличной части города на Куин-стрит и научил закупке лучших товаров, а мисс Клара направляла ко мне столько народу, что я трудился не покладая рук. Я нанял не только малютку Роуз, но вскоре и еще двух таких же. Они были малы, и я платил им немного, но они радовались постоянной работе, и в скором времени я уже делал хорошие деньги.
И вот из этого и всего, что произошло в прошлом, я научился важному: дай людям то, что им хочется, – и обретешь свободу.
В следующем году скончалась ее светлость. И мне было жаль ее. Еще через год партия его светлости вылетела из лондонской канцелярии. И все его нью-йоркские враги, едва об этом проведали, немедленно направили в Лондон петицию с просьбой убрать его светлость с поста за все долги, по которым он еще не рассчитался. Сказали и про то, что он переодевался женщиной, ибо слухи об этом тоже множились, хотя от меня никто не услышал ни единого слова. Его светлость даже бросили в долговую тюрьму.
Ему повезло: умер его отец, и он стал графом Кларендоном, что означало полноправное английское пэрство, а следовательно, по английским законам его нельзя было преследовать – отменный трюк, должен заметить. И ныне он живет и здравствует в Англии.
Ян и мисс Клара продолжали мне всячески помогать, оповещая о прибытии в порт грузов с шелком и другими товарами и содействуя в приобретении кое-чего по себестоимости. Поэтому я не удивился, когда вскоре после отбытия его светлости в Англию получил записку от Яна: он приглашал меня к себе за неким товаром.
По случаю мисс Клара оказалась там же, и мы прошли в гостиную.
– Квош, я приобрел кое-какое добро, которое счел для тебя интересным, – заявил Ян. – Да и Клара думает, что тебе понравится.
Я знал, что глаз у нее наметанный, и меня охватило нетерпение.
– Вот оно, изволь! – сказал он.
Я услышал, как отворилась дверь гостиной, и повернулся. И увидел моего сына Гудзона.
Он был силен и ладен, он улыбался. И мисс Клара, по-моему, тоже улыбалась, а может быть, плакала, но я не уверен в этом, потому что мой взор вдруг заволокло слезами и я ничего не видел толком.
Но после объятий я захотел убедиться, что понял правильно.
– Значит, теперь Гудзон принадлежит…
– Гудзон свободен, – возразила мисс Клара. – Мы купили его, а теперь отдаем тебе.
– Тогда он свободен, – кивнул я и какое-то время не мог ничего сказать.
Но потом – не знаю почему – мне пришло в голову, что я не удовлетворен. Я знал, что они желали нам с Гудзоном добра. Из прожитых лет мне было ясно и то, что вся эта торговля людьми, которой занимался мистер Мастер, – ужасное дело. В душе я считал, что ни он, ни кто-либо еще не вправе владеть другим человеком, и если он отказался хотя бы от одного раба, то уже хорошо. И я знал, что мечтал о свободе Гудзона больше, чем о своей. И все-таки, несмотря на эти соображения, я понимал, что в душе не удовлетворен этой сделкой.
– Спасибо за вашу доброту, – сказал я мистеру Мастеру. – Но я его отец и хочу купить свободу для моего сына.
Я увидел, как Ян быстро глянул на мисс Клару.
– Он обошелся мне в пять фунтов, – сказал он.
Я был уверен, что это слишком скромная сумма, но ответил, что столько мне следует и вернуть, после чего я тем же вечером выплатил ему первую часть.
– Ныне отец твой купил тебе волю, – сказал я сыну.
Не знаю, прав я был или нет, но для меня эта покупка значила много.
Это было два года назад. Сейчас мне шестьдесят, то есть больше, чем проживают многие, и намного больше, чем живут рабы. Недавно я прихворнул, но думаю, у меня еще есть в запасе время, и мой бизнес процветает. Мой сын Гудзон держит маленькую гостиницу сразу за Уолл-стрит и управляется хорошо. Я знаю: он предпочел бы море, но остается на берегу в угоду мне. У него есть жена и малыш-сынок, – может быть, они удержат его на месте. Мы ежегодно ходим в гости к мисс Кларе отпраздновать день рождения маленького Дирка, и я замечаю на нем вампумный пояс.
1735 годСуд назначили на завтра. Жюри было созвано губернатором. Тщательно отобранные марионетки. Обвинительный вердикт обеспечен. То есть речь идет о первом жюри.
Потому что едва двое судей взглянули на него, они, хотя и сами были дружны с губернатором, вышвырнули подставных присяжных и начали заново. В новом жюри были исключены подтасовки. Суд будет справедливым. Честный британский процесс. Пусть от Нью-Йорка до Лондона далеко, но город был все-таки английским.
Вся колония ждала затаив дыхание.
Но это не имело значения. У подсудимого не было надежды.
3 августа 1735 года от Рождества Господа нашего. Британская империя наслаждалась Георгианской эпохой. После кончины королевы Анны на трон был призван ее сородич Георг Ганноверский, такой же протестант; ему же вскоре наследовал сын, второй Георг, который и правил империей ныне. Это был век уверенности, изящества и разума.
3 августа 1735 года. Нью-Йорк, жаркий и душный полдень.
С другого берега Ист-Ривер могло показаться, что пейзаж сошел с полотна Вермеера. Тихие воды, мирная картина: длинная, низко прочерченная линия далеких причалов, все еще носивших имена вроде Бикман и Тен Эйк, уступчатые остроконечные крыши, приземистые склады и парусники на рейде. В центре же ловчился ужалить небо изящный маленький шпиль церкви Троицы.
Однако обстановка на улицах была далека от мирной. В Нью-Йорке уже проживало десять тысяч человек, и город рос с каждым годом. Лишь половина Уолл-стрит, пролегавшей по линии бывших валов, тянулась вдоль береговой черты. Западная часть Бродвея, фруктовые сады и очаровательные голландские садики сохранились, зато на восточной стороне теснились кирпичные и деревянные дома. Пешеходам приходилось протискиваться между открытыми верандами и лотками, лавировать между водяными бочками и мотающимися ставнями, уворачиваться от тележных колес, кативших себе по грунтовым и мощеным улицам к шумному рынку.
Но главной бедой для всех и каждого было зловоние. Конский навоз, коровьи лепешки, помои, мусор и грязь, дохлые птицы и кошки, всевозможные экскременты покрывали землю в ожидании, когда все это смоет дождем или высушит солнцем. А в знойный и душный день от этой гнили и нечистот исходил густой смрад. Вызревший на солнцепеке, он всползал по деревянным стенам и заборам, пропитывая кирпич и известку, спирая дыхание в каждом зобу, разъедая глаза и поднимаясь до скатов крыш.
Таков был запах лета в Нью-Йорке.
Но Бог свидетель, то был британский город. Человек, глазевший на него через Ист-Ривер, мог находиться возле деревни Бруклин, где до сих пор звучала голландская речь, но пребывал тем не менее в графстве Кингс, с которым выше по реке соседствовало графство Куинс. За островом Манхэттен и рекой Гудзон по-прежнему простиралась материковая часть, которую английский король Карл II самолично нарек Нью-Джерси.
В самом городе все так же встречались милейшие голландские домики с остроконечными уступчатыми крышами, особенно в нижней части Уолл-стрит, однако дома поновее были выдержаны в английском георгианском стиле. Старый голландский Сити-Холл тоже сменился классическим зданием, расположившимся на Уолл-стрит и самодовольно взиравшим на Брод-стрит. Голландская речь сохранилась близ рыночных прилавков, но исчезла из торговых домов.
С английским языком пришли и английские свободы. Город обладал королевской хартией с личной печатью короля. Да, бывший губернатор потребовал взятку за хлопоты в получении сего королевского признания, но этого следовало ожидать. Когда же хартия была дарована и запечатана, свободные люди города могли ссылаться на нее сколь угодно долгое время. Они выбрали своих городских советников; они были свободнорожденными англичанами.
В Нью-Йорке нашлись бы люди, способные упрекнуть эту английскую вольницу в несовершенстве. С ними согласились бы и рабы, торговля которыми на рынке близ Уолл-стрит неуклонно расширялась, но то были негры – люди низшего сорта, как в общем и целом полагали ньюйоркцы. Возможно, что и женщины Нью-Йорка – те, что еще помнили старое голландское право, уравнивавшее их с мужчинами, – посетовали бы на свой униженный по британским законам статус. Но честные англичане были твердо уверены в непристойности подобных жалоб со стороны слабого пола.