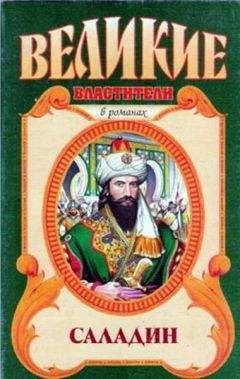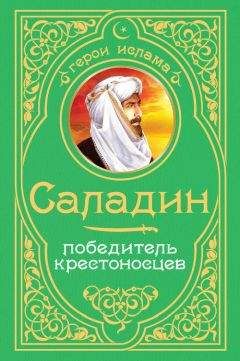О велении атабека первым узнал аль-Фадиль, а не ближайшие родственника везиря, самые верные приближенные — столь непростым показалось Юсуфу положение дел.
Аль-Фадиль, вызванный везирем через мгновение после того, как тот прочел последнее слово письма, огляделся, пристально посмотрел на апельсиновое дерево, росшее в саду, неподалеку от беседки, и как будто стал пересчитывать про себя желтевшие на нем плоды. Потом он тяжело вздохнул и покачал головой.
— Только не сейчас, малик. — Таково было мнение человека, лучше везиря знавшего, какие злые духи бродят по закоулкам дворца халифа.. — У меня есть сведения, что против тебя начинает готовиться новый заговор. Сведения скудные… а вернее смутные. Имена зачинщиков пока не известны. Как я понимаю, дело еще не дошло не только до первых, осторожных шагов, но и до первых решительных слов. Хуже всего то, что они, похоже, хотят привлечь к заговору ассасинов. Однако гонца в Масияф, к Старцу Горы[89], еще не посылали. Он бы не ускользнул от меня… Надо выждать. Если имя халифа исчезнет из пятничной молитвы они станут опасаться, что вот-вот исчезнет и сам халиф. И тогда чего доброго решатся на отчаянный, непредсказуемый ход. Вот где таится самая большая опасность, малик.
Отец же везиря, явившийся в беседку сразу, как только аль-Фадиль удалился из нее, никак не хотел поддаваться предостережениям.
— Юсуф, ты сам становишься скрытен и осторожен, как всякий исмаилит, — сурово проговорил Наим ад-Дин Айюб. — И не говори мне, что у тебя еще мало сил. Я прекрасно вижу, сколько у тебя сил. Хуже другое. Египет — как анаша. Он всем без разбора одурманивает голову. Похоже, и ты поддался дурману. Ты, правоверный мусульманин, боишься восстановить здесь истинную веру. Ты боишься исполнить волю Аллаха.
— Тебе, отец, доподлинно, как ангелу, известна воля Аллаха? — сдерживая нарастающий гнев, вопросил Салах ад-Дин.
— Разве слово великого атабека, которому верно служит вся наша семья, — стал повышать голос и его отец, — разве это слово, призывающее тебя свершить дело истинной веры, не есть воля Аллаха?
Взгляд отца вдруг напомнил Юсуфу леденящий тело и в то же время обжигающий душу взгляд Асраила.
— Когда наступит мой час, я сам получу тайное знамение от Всемогущего Аллаха, — словно в забытье, проговорил он. — Тогда ничьи чужие уста не произнесут веления свыше. Я не получу никаких многословных посланий. Но я буду знать, что именно теперь мне надлежит исполнить волю Аллаха.
Наим ад-Дин Айюб посмотрел на своего сына, как на лишившегося рассудка. Но сам он был многомудрым человеком и стал обдумывать свое впечатление. Наконец он снова заговорил — негромко и почти насмешливо:
— Может, ты стал суфием? Может, по ночам ты слышишь голоса? Может, ты возомнил из себя пророка, равного самому Мухаммаду, раз сидишь тут и дожидаешься небесного гласа? А вдруг я, старый слепец, не разглядел, что мой сын сам уже сделался исмаилитом… Ведь кто, как не исмаилиты, так любят скрытность, так любят все тайное… эту свою такию, «благоразумное скрывание веры», как они говорят. Однако же истинные вали всегда учили: там, где тайное, — там скорее найдешь дьявола. Я слышал, что главари исмаилитов разрешают своим приверженцам даже принимать христианское крещение ради сокрытия веры, а вернее ереси. Они говорят, что все позволительно в случае опасности. Но и тут скрыта очень большая тайна. Под опасностью надо подразумевать выгоду… Выгода и впрямь таит в себе опасность для души. Тут они не ошибаются, хотя, одурманенные ересью, полагают обратное… Что ты можешь сказать мне, Юсуф? Уж не принял ли ты из осмотрительности, на всякий случай, крещение от какого-нибудь копта или ромея, или же самого…
Он хотел сказать «римского первосвященника», но осекся, увидев, как смертельная бледность покрыла лицо его сына и на лбу у него выступили мелкие капли пота.
— Извини, Юсуф, — спохватился Наим ад-Дин Айюб, — я вовсе не хотел тебя оскорбить. Я всегда верно служил атабеку. Великий Зенги и его сын Нур ад-Дин облагодетельствовали всю нашу семью. Я хочу напомнить тебе, что великий Зенги, мир да пребудет над ним, уберег нас всех в ту нелегкую пору, когда нам грозили большие опасности.
— Я помню об этом, отец, — откликнулся Салах ад-Дин.
— И теперь я опасаюсь, что ты можешь совершить ошибку, которая ляжет несмываемым черным пятном на весь наш род, — продолжал его отец. — По крайней мере, в одном я, как твой казначей, обязанный разбираться в монетных сплавах, несомненно прав — в том, что твой сплав чрезмерной осмотрительности и самонадеянности не годится ни для отливки динаров, ни для ковки мечей.
После этого нелегкого разговора в продолжение целого месяца Наим ад-Дин Айюб хранил терпение и не донимал своего сына, но каждый день добавлял к вечерней молитве мольбу о том, чтобы Всемогущий Аллах добавил терпения и самому великому атабеку.
Внезапно случилось то, о чем никто из недругов халифа даже не догадался попросить Всемогущего Аллаха. Халиф аль-Адид внезапно слег с тяжелой лихорадкой. Узнав об этом, Салах ад-Дин стал каждый день требовать от аль-Фадиля доклад о том, как идет его дознание. Аль-Фадиль признавался, что возможные заговорщики еще не выявлены. Видно, они помнили о судьбе главного евнуха и о сетях, которые раскинуты на них по всему дворцу, и стали сами не в меру осторожны и осмотрительны.
— Может, и нет никакого заговора? — стал сомневаться сам Салах ад-Дин. — Уж не пугаемся ли мы теперь собственных теней?
— Пока жив халиф, заговор существует, как дух пустыни, — твердо сказал аль-Фадиль, понимавший, что ему уже нельзя идти на попятную. — Вопрос только в том, в чье тело он вселится. И задача одна — вовремя выявить одержимого.
Юсуф в те дни потерял сон, предчувствуя, что вот-вот разразится гроза.
Молитв о том, чтобы Всемогущий продлил терпение великого атабека, хватило на полтора месяца. Настал день, когда он разгневался уже не на шутку и послал в Египет гонца с «молнией, завернутой в пергамент». В своем новом послании атабек грозил везирю Юсуфу, что недалек час, когда он сам двинется в Египет, чтобы присутствовать на пятничной молитве в Большой мечети и услышать собственными ушами, кого в ней поминают.
— Теперь, Юсуф, я, как казначей твоего дворца и твоего войска, должен знать, что намерен делать везирь халифа, если великий атабек исполнит свое обещание, — сурово вопросил Наим ад-Дин Айюб своего сына, прочитав послание атабека.
Салах ад-Дин заметил, что свиток мелко дрожит в руке отца.
— Отец, ты хочешь взять с меня клятву, что я не стану воевать с великим атабеком, если он двинется с войском в Египет? — проницательно заметил везирь Юсуф.
— Здесь, в Египте, ты уже подхватил две дурных привычки, — заметил отец. — От еретиков ты научился скрытности и непоследовательности в поступках, а от еврейских купцов подхватил привычку отвечать вопросом на вопрос.
— Мое слово, отец. Я не собираюсь противиться воле великого атабека, — сказал Салах ад-Дин. — Я не стану воевать с нашим благодетелем, вот увидишь.
— Осталось дело за халифом Багдада, — невольно вздохнув с облегчением, напомнил сыну Наим ад-Дин Айюб. — Я молю Всемогущего Аллаха, чтобы Он поставил меня первым, кто услышит имя халифа аль-Мустади в Большой мечети Каира.
— Твое слово, отец, — сказал на это Салах ад-Дин. — Пусть твоя молитва будет услышана на небесах. Ты сам прикажешь хатыбу[90] заменить в пятничной молитве одно имя другим, воистину благословенным.
Добродетельный Айюб только открыл рот и закрыл его, не найдя слов. Сын научился удивлять своего отца и обезоруживать его мудрость.
— …Но только после того, как я буду уверен в нашей безопасности, — добавил везирь и, призвав к себе своих братьев-военачальников велел подтягивать к Каиру войска, стоявшие в Бильбайсе и Александрии.
Вскоре над стенами Каира поднялась пыль, скрывшая от дозорных все стороны света. Вокруг города начались маневры.
На рассвете в первую пятницу последнего месяца мусульманского года Наим ад-Дин Айюб в сопровождении полусотни телохранителей твердым шагом двинулся к Большой мечети.
Он вошел в мечеть за несколько мгновений до начала молитвы, полагая застать хатыба врасплох и тем самым не дать ему времени перевести дух и как-нибудь вывернуться. Он потребовал, чтобы хатыб подошел к нему, и сурово сказал:
— Если ты помянешь имя того, кто считается правителем во дворце халифа, я отрублю тебе голову.
Каир уже полнился разными слухами и предчувствиями. Все, уже давно затаив дыхание, смотрели на «чашки весов». Новое повеление не удивило хатыба, не менее умудренного жизнью, чем казначей везиря.
— А чье имя помянуть? — напрямую спросил он, глядя казначею в глаза.