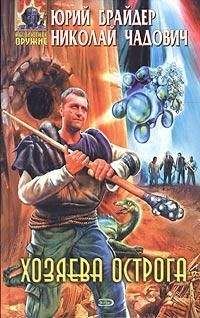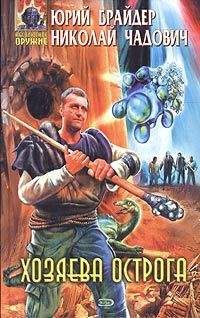белки – чрево черное и хребет серые;
а где найдены будут если роги носорукого зверя, то приложить к ним подробное сыскание, чтобы кость до последнего члена того зверя, буде возможно, собрать в целости.
И птицы: лебеди черные,
лебеди с гребнями;
гуси – зобы белые и крылья пестрые;
журавли черные;
птицы кедровки;
зеленые птицы, маленькие цветныя;
казарки – крылья черные, зобы коришневые;
гуси серые, переносицы белыя;
утки – зобы черныя, голова и шея красные…»
Хитро устроен был наказ. Вот как бы только роги большого зверя, а сам носорукий никак и не упомянут. Может, правда, думал Свешников, стоит за наказной грамотой добрый барин Григорий Тимофеевич? Он всяко искал подняться наверх. Может, потому и могут произойти в Москве некоторые события. Это только нерадивый помяс прячется в сендухе.
Скрипел зубами.
Прислушивался:
– Рядом стоит… Среди черных ондуш стоит… Хорошо стоит, с трех шагах не виден…
Знал: это страшная баба выдает ему тайну больших богатств воровской ватаги Сеньки Песка.
Но даже о таком большом богатстве думал с равнодушием.
Зачем ему потайной курул с соболями, взятыми воровской ватагой, если нет веры, если нет людишек, на которых можно опереться?
«Так умрешь, борясь с духом холгута».
Холодел, обдумывая предстоящую зимовку. В неверном прыгающем свете от очага внимательно всматривался в четвертушку листка, найденного под понбуром. Изустная грамотка человека Пашки Лоскута, оставленная в урасе, наверное, задиковавшим вожем Христофором Шохиным.
«Се яз, Пашка Лоскут, Захаров сын, соликамский жилец з городищ, пишу себе изустную паметь целым умом и разумом на реке Большой собачьей в русском ясашном зимовье, сего свет отходя…»
Издалека пришли в Сибирь братья.
«И буде мне где Бог смерть случится, коли лишусь живота, останется за мной всякое борошнишко – кости носоручьей двенадцать пуд, обломков да черенья тесаного пять пуд, да облосков и черенья тесанова с пять пуд натрусок того рогу, да семь сороков соболей добрых чорных, да одна пищаленка кремневая гладкая, да шуба соболья чорная…»
Не бедными собирались сходить с сендухи воры Сеньки Песка.
Сильно помогли ворам тайные торговые люди в Якуцке, хорошо знали – свое вернут с верхом.
«А ся изустную паметь довести до монастыря.
А роду и племени в мой живот никому не вступатца, потому как роду один брат, и мать осталась.
И буде мать жива, то взять ее в монастырь к Троице Сергию.
А как ся изустная паметь дойдет до архимандрита и до всей братии, борошнишко мое разделить строго на части.
Троицы Живоначальной и Сергия Чюдотворца архимандриту и келарю положить двадцать рублев, а Кирилу и Афанасию в монастырь пятнадцать рублев, а Николе в Ныром на Чердынь отправить десять рублев, да еще на мой счет икону Катерины Христовой мученицы поставить в церковь.
А ясыря моего продать, и в монастырь отдать же.
И где ся изустна паметь выляжет, там по ней суд и правёж.
Лета от сотворения мира 7154-го гулящий человек Пашка Лоскут писал».
На обороте подробно перечислялись всякие заемные кабалы, лежавшие на том Пашке. Указывались вареги-други, шапка суконная, кафтан цельный ношенный, ну, конечно, и всякое другое. Видно, ценил воров торговый человек Лучко Подзоров, хорошо поднимал воров в поход. Не бедными бы вернулись.
Да не вернулись.
И долги Пашкины вылегли на Гришку.
Осень.
Днем бусил дождь, ночью ударил заморозок. Стеклянно пустынно позвякивали на ветру всякие обледеневшие ремешки, навязанные на урасу. День сейчас?
Свешников поднял голову.
Вроде бы день, а страшной бабы нигде нет.
Литвина не встретил с нехорошим именем Римантас, никто так не назвался нигде, и бабы нет. Вот совсем нет бабы Чудэ, будто ее и не было. Зато снаружи – глухие невнятные голоса. То ли люди пришли, то ли олешки мэкают.
– Эмэй!
Негромко позвал.
Боялся за Чудэ: вдруг вздрогнет.
С трудом повернулся, сел на понбуре. Молча смотрел, как откидывается, впуская свет, шапонач – меховая входная закрышка. Увидел незнакомое лицо – у рта мохнатое, ноздри наружу. Узнал:
– Гришка!
Сильно удивясь, Лоскут воззрился на потерянного передовщика. Потом, шумно дыша, положил крест, сдвинул шапку на бок:
– Степан!
Восхитился:
– Жив Носорукий!
Смеясь, полез в урасу, подбирая рукой полы длинного ровдужного кафтана, украшенного красными и черными накладками:
– Здоров ли? Месяц по кругу ходим. Лисай сказал, что ты, поскользнувшись, будто бы свергся в воду. Везде искали, нет тебя. Почему здесь? Чья ураса? Со стороны – вроде брошена.
Еще сильней восхитился:
– Ты!
Повторил, не веря:
– Жив!
Раздул вывернутые ноздри:
– А у нас Микуня стал заговариваться. Совсем плохо видит, хоть сейчас отпускай его в сибирския города.
– Он с вами?
– Ты что! Ты что! – замахал рукой Гришка. – В зимовье Микуня!
Вдруг поднял брови, дошло:
– Что ли, баба Чудэ выходила?
Свешников кивнул.
– Я чувствовал! – обрадовался Лоскут. – Не мог ты умереть. У тебя цель была, зачем тебе умирать, правда? Я говорил Лисаю: раз баба исчезла и Степан исчез, значит, оба не зря исчезли. Значит, говорил, случилось что-то такое, что, может, теперь видят друг друга постоянно. А? Вот ничего такого не знал, но верил, что увижу. Так всем и говорил: куда денется наш передовщик? Куда денется Носорукий?
Усмехнулся:
– Окончательно так прозвали.
Свешников усмехнулся:
– Лисай с вами?
– Нет. Он тоже в зимовье. С Митькой Михайловым плот вяжут.
– Не пришел кормщик Цандин?
– Не пришел.
Разглядывая Свешникова, покачал головой:
– Ходить-то умеешь?
– Совсем немного.
Гришка засмеялся:
– Это ничего. Это научим.
Строго, прямо как настоящий передовщик, крикнул наружу:
– Елфимка!
– Ну? – Елфимка, сын попов, тоже радуясь, простоволосый, послушно полез в темную затхлую урасу.
– Тут рядом ветка валяется. Ну, вроде как лодка. Писаные для себя строят такие.
– Ну, валяется. Так вся в дырах!
– А нам в ней не плавать. Прицепи к оленным быкам. Повезем Носорукого в зимовье. Празднично. Как царя.
Подмигнул Свешникову, немного устрашась своих слов:
– На лодке!
И пожаловался:
– Мы, Степан, так никого и не встретили. Выходит, не судьба. А мне так и вообще теперь не судьба. Хотел уйти с Ерастовым на новую реку Погычу, а хожу по пустым местам.
– Ты горазд догонять. Может, еще догонишь Ерастова.
Спросил:
– Где Кафтанов?
Гришка замялся:
– Ушел.
– На плоту Лисая?
– На нем.
– С шумом?
– Ну, с шумом, не с шумом, но ушел. Теперь что говорить?
– А кто с ним?
– Ну, Косой ушел. Ну, Ларька. А с ними Ганька Питухин. Забрали всю носоручью кость Лисая, самого чуть не зарезали. Я Ганьке кричал: ты зря, Ганька, уходишь! Кричал: дождись, Ганька, кормщика Цандина, тогда пойдешь домой по закону. Кричал: мы еще Носорукого найдем! Но Ганька не слушал. Ушли. О них ничего не знаем. Может, потонули в бурной реке, а может, встретили коч кормщика.
– Почему же Лисай не ушел с ними?
– Он Федьку и Косого боится.
– Так ведь он и тебя боится.
Гришка ухмыльнулся:
– Да он совсем умом ослаб. Одно твердит: останусь в сендухе! Один, дескать. Нюнюма. Как гусь бернакельский.
– Так и твердит?
– Так.
– А еще что твердит?
– Да остальное так, – Гришка пожал плечами. – В основном, вирши.
Свет резкий.
Заслонясь рукой, смотрел в забытое, опрокинутое над землею небо.
Деревянную рассохшуюся лодку-ветку встряхивало на мелких кочках, иногда на камнях, но в общем быки влекли лодку терпимо.
Окликнул:
– Елфимка!
– Здесь я, – подошел сын попов.
– Лежит у меня, Елфимка, в ташке некая изустная память. Написана от лица гулящего человека Пашки Лоскута. Я Гришке сказал: вот тебе весточка от родного брата. Был, дескать, у тебя брат. Вот разделил некоторое богатство по разным монастырям. Ну, а Гришка решил по-своему. Сказал: отдай ту память Елфимке. Сын попов, дескать, строг по таким делам. Он сразу поймет, что куда определить.
– Я пойму, – строго кивнул Елфимка.
Потом догнал ветку сам Гришка Лоскут. Посматривая на Свешникова, долго шел рядом.
– Ты вот, Гришка, – пожалел Свешников, – искал, искал, и нашел брата. Чего теперь хмуришься?
Гришка вздохнул. О брате почему-то не сказал ни слова, зато напомнил:
– Ты с бабой Чудэ не попрощался, Степан. Оно, конечно, страшная баба, но вот ведь выходила тебя, не съела. Надо бы попрощаться.
– Обязательно попрощаюсь.
– Думаешь, придет?
– Обязательно.
Подумав, добавил:
– Баба Чудэ, Григорий, указала мне путь к тайному курулу. Знаю теперь, в каком месте сендухи стоит тайный богатейший курул. Вот не нашли носорукого, зато вернемся домой совсем не с пустыми руками.