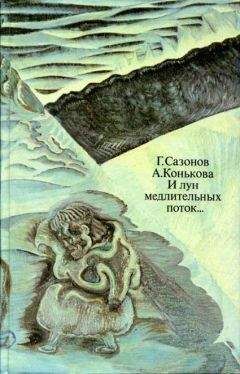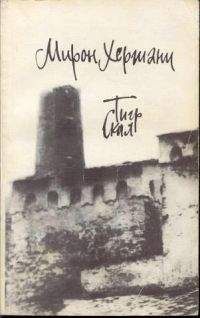— Ы-ы-у-ы! Ёлноер! — ругались старики. — Ты, Мирон Картин, возьмись-ка за парней. Совсем испортились, совсем ничего не могут. Ни зверя не добудут, ни селения не оборонят. Вдруг лихие люди нагрянут? Нагрянут лихие люди, а у парней рука дрожит.
— Хи-хи-хи! — задрожали кусты от девичьего смеха.
— Не дрожит рука! — крикнул Тимпей Лозьвин и вышел на поляну. Три-четыре лука осмотрел, три-четыре тетивы натянул, взял в руки пятый, тяжелый лук. Туго проныла стрела и впилась в глаз Комполэна, за ней вдогонку вторая, а третья впилась в оперение первой стрелы.
— О! О! — выдохнули кусты.
Резко и мощно метнул копье Тимпей, ударило копье в середину черепа, и тот треснул.
— О! О! Ай-е! О, Сим Пупий! — переплелись девичьи шепотки в ветвях кустов. — О милый юноша Тимпей!
Три тяжелых ножа снял с пояса Тимпей. Как молния пролетел нож, серебряной рыбкой отблеснул другой, черным ястребом промелькнул третий нож. По самую рукоятку засели ножи в чучеле утки.
— Торум вайлын! Видишь, боже небесный, Тимпей — великий охотник! — одобрительно выдохнули старики. — Кинь топор, Тимпей!
На тридцать сажен кинул топор Тимпей. Сверкнул лезвием и наискось срубил сосенку, на которой громоздилась голова Ялвала Ходячего.
— Ты самый сильный, Тимпей! Ты самый желанный! — упруго поднялся звонкий девичий голос.
Старики недовольно оглянулись, а кусты, хлопнув ладошками листьев, плотно сомкнулись. Мягкий топоток раздался, вспорхнули легкокрылые синицы, разбежалась девичья стайка. А Тимпея переполнила горячая радость — он узнал голос Вильян, голос самой дорогой женщины. Он сегодня найдет ее, он отыщет ее на месте Девичьих игрищ, уведет сюда, под священный кедр, и скажет о своей любви, о своей тоске и нетерпении. Тимпей сегодня попросит ее себе в жены, он не хочет брать ее силком. Нет, он будет просить ее.
А праздник продолжался. Гуляла по кругу посудина с брагой, и все были веселы и добры. И не опускалась темнота над пиром, над Еврой раскинулась белая ночь.
Но не нашел Тимпей любимую, убежала она с девушками в девичью рощу, где вокруг костров они водили хороводы. Только доносился к Тимпею ее голос, такой дорогой и чистый:
О, Евра, Золотые берега,
Серебристое дно.
Ты мать моя, Евра,
Лодка над тобой — моя сестра.
Голос высоко поднимался, распахивался над Еврой, и у Тимпея дрожало сердце.
Лодка моя, уткой лети,
К красному солнцу
Меня унеси.
Только на третий день, когда затухли праздничные костры, встретил Тимпей свою Вильян.
— Я охотник, Вильян! — сказал Тимпей.
— Знаю.
— На лыжах загоняю лося.
— Знаю, Тимпей.
— Ножом убиваю вуй-аньсих!
— Знаю, Тимпей!
— Я силен и здоров. В моем доме всегда будет мясо.
— Да. Пусть в твоем доме всегда будет мясо!
— В моем доме будет много детей, Вильян!
— Да пусть сохранят их боги, — ответила девушка.
— Стань матерью моих детей! — выдохнул Тимпей. — Стань хозяйкой моего дома!
— Я готова! — ответила Вильян. — Выкупай меня у отца моего. Приноси зимой выкуп.
— А сейчас? Почему не сейчас? — заторопился Тимпей.
— Лето… — тихо засмеялась Вильян. — Лето, Тимпей. Скоро наступит время тяжелой женской работы. Иди к отцу зимой, Тимпей.
— Ладно, — ответил Тимпей. — Зимой я выкуплю тебя, милая девушка!
4
Над песчаными отмелями, над ленивыми речушками, над густыми травами катится июньское солнце. Мужчины поставили в запоре кямки, разделили на паи, соорудили селянский садок, поставили фамильные плавучие садки. Большая вода сошла, обмелели многие речушки, только около запора река как бы обрюхатела, огрузнела река в омуте у запора, стала живой, чудовищно плотской от косяков рыбы, что густыми стаями подходили к запору. И этот омут, оживший, переливающийся, струящийся, день ото дня все больше грузнел и грузнел от рыбы, и та, пометавшись, побившись мордами о плетеную стену, выбрасывалась из реки и вдруг находила выход и устремлялась в кямку. Кямки быстро наполнялись живым, чистым серебром, и мужчины, довольные и сытые, вытряхивали рыбу в лодку и сплавляли вниз по реке к своим шохрупам — коптильням.
Как стрела из лука пролетело время июня, и над рекой, над теплыми кедрачами, колыхаясь в горячем мареве, поплыло время Кул Тослэн Ёнкып — время копчения рыбы, месяц июль, месяц изготовления урака. Жарко отсвечивали медно-красные сосны, по теплым стволам сочилась смола, отсвечивая медово и застывая по краям белой ломкой корочкой. Глухие влажные тропы уводили в дремучие урманы, поросли они подорожником, лесные поляны покрылись ягодами, и те уже давно сбросили цвет, пахло земляникой. Сочно похрустывали под босой ногой изрезанные листья одуванчика, и руки от него покрывались горьким, клейким молоком. Весенние ранние ручейки, что выносили из ельника притаившийся снег, утончились до детской ручонки, и не могли уже пробираться среди мхов, и высохли, насорили мелкой галькой, оставив после себя пыльный след. А в тенистых, напоенных влагой низинах кучками, гнездами поднимались сочная кислица, заячья трава, которую русские называли так чудно — «щавель», и эту заячью траву бросали в суп вместе с узкими перьями дикого лука. Древние старухи с утра уводили голопузых ребятишек на берег реки, где колыхался легкий ветерок, отгоняющий гнус, и в плетеные корзинки собирали кислицу — ее мочили на зиму для зеленого супа, собирали дикий лук-гусятник, и целыми днями детишки поедали кислые, сладкие и горькие травы, хрустели корешками, клубеньками, луковочками, и животы у них раздувались, а глазенки посверкивали на обожженных, припеченных солнцем мордочках.
Не уставая льется расплавленный жар солнца, раскаляя прибрежные пески, поджигая порыжевшие иголки. Побурели муравьи, и пожелтели пчелы и бабочки на желтых, медово-золотистых цветах. В ленивой истоме плавно кружили над рекой чайки, не кружили, а плавали, не шевеля крыльями, присаживались на отмели и, раскинув крылья, дремали, раскрывая клювы. Жаркий, знойный, душный месяц июль, месяц птичьих выводков и линьки. Мужчины отдыхают от охоты, лишь юноши промышляют на озерах и протоках, загоняя в ловушки, крапивные сети потерявших перо гусаков и селезней.
Мужчины сонно и сыто дремлют, два раза в день проверяют морды, а женщины уже не разгибают спину целыми сутками. Наступило время дымных шохрупов — коптилен. В полдень, когда солнце угнездится на самой макушке неба, на берегу собираются женщины, поджидая рыбаков. Река лениво наплывает теплой волной на берег, на их босые ноги, и женщины негромко переговариваются, чтобы не вспугнуть рыбу. Они подоткнули за пояс длинные юбки, входят в реку, ополаскивают лица. На берегу они сбросили с плеч берестяные кузова и деревянные совки. И вот сверху, оторвавшись от запора, показались лодки, и, хотя их несет течение, двигаются они медленно — полны лодки рыбы. Женщины и рады рыбе, но у них болит поясница, болят руки. Это пройдет после часа-другого работы.
Приткнулись лодки к берегу, мужчины вышли на берег и не торопясь, поджидая друг друга, поднялись к кедру, расселись в его тени и раскурили трубки. Так они будут сидеть до вечера, пока вновь не сходят на гребях к ловушкам. А женщины подходили к лодкам, деревянными совками нагружали еще живую рыбу в кузова, поднимали на плечи и уносили к шохрупам. У многих коптилен в землю вросли старые лодки или глубокие долбленые колоды, их наполняли свежей речной водой и туда высыпали рыбу. Много раз спускались женщины к лодкам, много раз поднимали тяжелые кузова на крутой берег. Опустели лодки, женщины очистили днища и борта от чешуи, набросали свежей травы и зеленых веток. Только один Тимпей Лозьвин помогал матери и сестрам таскать рыбу, однако не в женском кузовке, а в большой, плетенной из тальника корзине. Отец Тимпея еще не стар, поломал его крепко медведь, ноги не держат, но руками нечеловечески сильный. Ползал он на коленях, с колен вырубал прочные, легкие и стремительные лодки-долбленки.
А женщины, перетаскав рыбу, торопились разделать ее. Разделать как можно скорее: жара — рыба мгновенно вспухает, тухнет, собаки даже не едят. Это же грех страшный — портить такую прекрасную, нежную и сочную рыбу, добытую на священном месте летнего запора, рыбу, посланную богами.
Женщины ближе пододвинули к себе отесанные березовые чурки, бревнышки, прикрыли колени мягкой берестой и взяли в руки нильсапы — костяные ножи для чистки рыбы. У каждой женщины свой нильсап — у кого длинный, с тяжелой ручкой, у кого короткий, с острым лезвием и зазубренный сверху. Из века в век матери передают своим дочерям искусство разделки рыбы; это только на первый взгляд кажется таким простым и легким, но за лето, за время копчения, женщины успевают разделать неподъемные груды рыбы, груды эти выше, чем большая изба. За лето по нескольку раз слезает кожа с ладоней, и они белеют, как рыбье брюхо, пальцы распухают и не гнутся от уколов рыбьих костей, а у неумеющих, так и не научившихся женщин руки кровоточат и нарывают. Тягучей болью наливается поясница от долгого сидения на корточках, болит усталая спина от живой тяжести рыбы, которую нужно перетаскать из лодки к шохрупам. Но любо-дорого смотреть, как умеет женщина готовить рыбу. Раз! — скупое, неуловимое движение нильсапа, и снята чешуя. Два! — и чешуя, скользя, сползает с другой стороны, и рыбина чиста. Три! — и рыбина вспорота, четыре — кишки вынуты, пять — и готовая, порой еще живая рыба летит в чуман. В другой чуман бросают чешую, а в третий — кишки. Чешую тщательно промоют, высушат, высыплют в посудину, а зимой из нее сварят вкусный студень. Кишками — а их так много — нагрузят колташиху, и пусть они потихоньку булькают на медленном шепчущем огне, из кишок вытопится вкусный жир. А его нужно много готовить на долгую зиму.