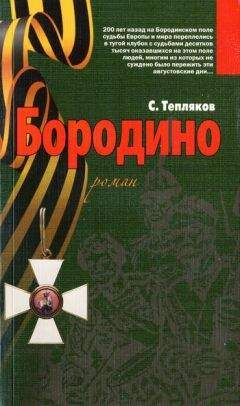– Держись, гвардейцы! – закричал и сам Храповицкий, хотя знал, что и без него есть кому кричать: офицеры командовали огнём, залп гремел за залпом, а потом началась частая одиночная пальба, когда каждый выцеливал себе своего. Сквозь дым и пыль стало видно, что конница рассеена, атака не вышла, и уцелевшие убираются вспять. «Не так страшен чёрт»… – подумал Храповицкий.
– Перестраивайтесь из эн-ашикье в уступный порядок! – прокричал он полковнику Ивану Козлянинову, командовавшему Измайловским полком вместо него, толстому, с двумя подбородками, лежащими на воротнике мундира, и с выпяченными губами. Козлянинов закричал приказ дальше. Масса войск снова пришла в движение. Но и с той стороны за этим следили – Тильман заметил перестроение и решил атаковать в этот момент. Трубы у саксонцев запели «атаку», всадники воротили коней, на ходу создавая атакующую массу.
«Ловок, французская собака!» – подумал Храповицкий и закричал:
– Остановить перестроение, встречать неприятеля!
Литовский и Измайловский полки замерли, кто как был. Минута была роковая. Солдаты уперлись ногами в землю, словно надеясь своими телами остановить огромную массу людей и лошадей. Однако овраг снова помог – саксонцы расстроились ещё до атаки и, будучи обстреляны, отступили. 2-й батальон Литовского полка вдруг бросился за саксонцами вслед и начал стрелять им в спину, а упавших добивать штыками. Храповицкий пришпорил коня и поскакал к литовцам. Командира батальона подполковника Василия Тимофеева он нашёл среди солдат – с адъютантами и трубачами он собирал батальон, увлекшийся резнёй кирасир, особенно привлекательной тем, что кирасиры, упав на землю, из-за своих тяжёлых лат становились беспомощны, словно перевёрнутые на спину жуки.
– Быстрее собирайте людей! – прокричал Храповицкий. – Быстрее!
Литовцы возвращались в строй. Храповицкий оказался в этом каре. Тимофеев рядом с ним вытирал платком пот со лба. Он и Храповицкий посмотрели друг на друга и рассмеялись.
– Как же это вам, Василий Иванович, в голову пришло гнать кавалерию штыками? – спросил Храповицкий. – В истории войн такого не было.
– Теперь будет… – отвечал Тимофеев. – Да не мне это пришло – солдаты сами пошли. Накопилось, видать… Да мы и атаку отбили без выстрелов – приказал я солдатам водить штыками перед лошадиными мордами, а если кто подъедет близко, то колоть лошадей в морду. Лошадь сама на штык не прыгнет, это только если массой идут, разогнались и сзади подпирают. А тут они разгон потеряли. Хотели они нас атаковать, начали уже выстраиваться для атаки на нашем берегу, но тут мы на них и бросились! Век бы так воевал!
Лицо Тимофеева было счастливым. Солдаты вокруг хохотали, вспоминая подробности необычайной схватки с неприятелем – до сих пор не доводилось ходить на кавалерию в штыки.
– Поздравляю вас, господин подполковник! И спокоен за это место, пока на нём ваш батальон под вашей командой! – громко сказал ему Храповицкий, зная, как много значат такие слова, сказанные в такую минуту. Тимофеев тоже почувствовал важность момента, выпрямился и отдал честь.
Оба они увидели, как через ручей переезжает небольшая группа конников в русских штаб-офицерских мундирах и в шляпах с перьями. Храповицкий откланялся Тимофееву и поскакал узнать, кого это принесло по его душу. Оказалось, это приехал Коновницын с остатками своего штаба и своих ординарцев.
– Всё! Никого нет, Матвей Евграфович, совсем никого! – не со страхом или с ужасом, а с детским удивлением говорил ему Коновницын, которому словно и правда странно было, куда же все – Багратион, Воронцов, Сен-При, Неверовский и многие, многие другие – подевались. – Будто метлой сметает людей! Такой день! Вот Кантакузена бригада и часа нет как пришла – а ведь нет уже из неё никого, и самого князя Григория Матвеевича убило возле меня!
И опять в этих страшных словах не было страха, а было только изумление. Коновницын вдруг улыбнулся, поднял заговорщицки палец и повернулся к Храповицкому задом.
– Видите?! – как-то даже ликующе спросил Коновницын.
– Что? – удивленно спросил Храповицкий, не понимавший, что он должен видеть.
– Да вот же, вот – фалды мундира мне ядром оторвало! Вот это куриоз! – проговорил Коновницын, сияя. Храповицкий и правда увидел, что полы мундира оторваны. «Да как же тебе задницу-то не оторвало?! – с удивлением подумал Храповицкий. – Вот был бы «куриоз». Только ты бы уже не смеялся»…
Странности Коновницына, который был не совсем от мира сего, были известны в армии. Но, как всегда бывает на войне, тому, кто в бою не теряет головы, прощалось всё. Коновницын же головы не терял. Храбрость его происходила от детского неверия в смерть и от того, что всё вокруг он воспринимал, будто читал книжку – зная, что вот-вот, как надоест, он её закроет и пойдет пить чай с булочками. Страшное он забывал почти сразу, как оно кончалось. Вот и сейчас атаку, перед которой Багратион простился с ним, он уже едва помнил, хотя с тех пор прошло меньше двух часов. По такому счастливому устройству его психики ужасы войны не действовали на него. Он и командовал немного по-детски, удивляясь в душе, что ему повинуются и что после его слов приходят в движение массы войск. После Бородина он отослал свой мундир с оторванными фалдами домой к жене – хотел, чтобы и она посмеялась над «куриозом». Жена долго плакала над этим мундиром вместе со всеми коновницынскими слугами.
Храповицкий сумрачно смотрел на Коновницына и гадал, не сошёл ли тот с ума. Думать об этом долго не было, впрочем, времени – доложили, что на полк снова идёт кавалерия. Это был тот страшный момент, когда на Измайловский полк пущены были конные гренадеры, а на Литовский – кирасиры генерала Нансути, которых Наполеон называл «железные люди». Однако две уже отбитых атаки подбодрили людей, да и овраг снова помог – отбили и конно-гренадер, и железных людей Нансути. Гвардейцы выбегали из строя и напоследок кололи «железных людей» штыком в бок. Кирасиры – не такие уж они были и железные – валились замертво.
Поняв, что кавалерия не пугает русских, французы выставили напротив 80-орудийную батарею. Ещё когда она начала выезжать на позицию, Храповицкий увидел, как напряглись лица у его солдат и офицеров – в сущности, это было то же самое, как видеть приготовления к своему расстрелу. Потом французы начали стрелять. Храповицкий к этому времени снова переехал в каре 2-го батальона Измайловского полка. Здесь же был Коновницын. Ребёнок в нём, видимо, устал и уснул – Коновницын поскучнел и только иногда, когда ядра вырывали из рядов людей, кричал вместе с другими офицерами «Сомкните ряды!» (солдаты смыкались и сами, но надо же было хоть что-то делать). Иногда они с Храповицким объезжали батальоны, подбадривая людей. Солдаты в ответ кричали «Ура!» и бывало, что грохот разрыва приходился на самое это «ура!» и не всем, кто начал, доводилось его докричать.
Храповицкий с Коновницыным были как раз у батальона подполковника Тимофеева, как вдруг кто-то из офицеров указал им на французскую пехоту, явно намеревавшуюся занять высоту невдалеке, с которой потом можно было бы расстреливать русских продольно. Коновницын совсем как дитя закричал: «Боже! Что делать?», и начал растерянно оглядываться вокруг. Храповицкий с удивлением глянул на него и потом распорядился идти батальону к высоте, занять её и удерживать.
Русские успели выйти раньше французов. Обосновавшись на высоте, Тимофеев оттуда увидел, в каких силах неприятель идёт к нему, пересчитал батальонные колонны – выходило, что французов больше вшестеро. Тимофеев, чтобы создать видимость большого войска, построил резервные два взвода в одну линию, причем не в три, а в две шеренги. Когда французы пошли, взводы шагнули вперёд так, чтобы французы могли видеть только верхушки их киверов. Французы, полагая за высотой большие русские резервы, остановились и открыли перестрелку. Долго эта игра в солдатики продолжаться не могла, но Тимофеев понимал, что сейчас и минута важна, а там может что и придумается. Но потом сначала был ранен Тимофеев, потом – капитан Арцыбашев, которому подполковник сдал батальон.
Литовцы отступили с высоты в кустарник, французы заняли высоту и начали оттуда палить русским во фланг. Тогда решено было высоту отнять. Остававшийся старшим в Литовском полку подполковник Шварц пошёл с 1-м батальоном литовцев в атаку, в самом начале которой Шварц был ранен в руку и в живот, но приказал нести себя впереди батальона. Двое солдат скрестили ружья и несли его, глядя, как сереет его лицо и мутнеют глаза. Он был ещё жив, когда они взяли эту высоту. Скоро на неё перёшел весь полк, а к вечеру к нему подошли Измайловский и Финляндский полки. С измайловцами не было уже ни Храповицкого, ни Козлянинова, ни принявшего полк после них полковника Мусина-Пушкина 1-го – всех уже вынесли с поля боя ранеными. Команду принял полковник Александр Кутузов, человек с поджатыми губами и жестким выражением лица. Под Аустерлицем он был ранен в левую руку, под Фридландом – в правое плечо. «Куда-то сейчас?» – думал он время от времени, стоя на своём месте, в осыпаемых неприятельским чугуном рядах. К этому времени во всех трёх полках было чуть больше тысячи человек – в строю оставался один из шести. Не было ни рот, ни батальонов – были только знамёна, и люди, решившие умереть под ними на этом месте. Французская конница время от времени бросалась на гвардейцев, и тогда артиллерия прекращала стрелять. Это время считалось у гвардейцев отдыхом.