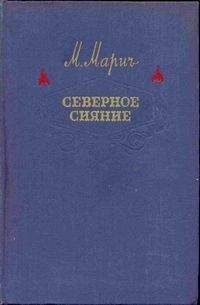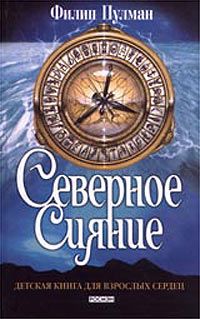Горбачевский и его товарищи откровенно рассмеялись. Только Бестужев, сохраняя серьезность, нетерпеливо ерошил светло-русый хохолок, задорно торчащий над его отрочески чистым лбом.
— Надышались вы там, за границей, у разных аббатов да капуцинов духа этого божественного, — заговорил Горбачевский. — Уверяю вас, что крестовым походом против тирании ни русский мужик, ни русский солдат не ополчится. А значит, и не к чему ему этим голову забивать понапрасну.
— Интересно, в каком же духе собираетесь действовать вы? — хмуро спросил Сергей. — Уж не пустите ли вы в дело политические трактаты?
— Мы не собираемся действовать, а уже действуем, — заявил Андреевич. — Мы связываемся с людьми через таких поверенных нашей роты, как, например, фейерверкер Иван Фадеев, ефрейтор Иван Зенин или через таких старых служак, как Камбалюк или Андреев, — людей крепких и рассудительных. Мы объясняем солдатам, что служат они непомерно долго, что жалованье получают грошовое, на него и ваксы для сапог да точила для штыка не купишь. Мы говорим, что они, как бессловесные скоты, вынуждены безропотно сносить строгости и жестокие наказания, исходящие от всякого рода начальства. И что по всем этим причинам они погружены в вечное уныние, тогда как они-то и составляют основание силы и славы Российского государства. Мы, — с увлечением продолжал Андреевич, — напрямик открыли им о существовании Общества, которое ставит своей целью избавление их от столь невыносимой жизни. Но общество это, говорим мы им, не может достигнуть своей цели без действия самих солдат. А посему они должны упорно бороться за свои права. И ежели они на такое дело решатся, то последствием сего перво-наперво явится уменьшение срока службы, лишение начальства права обижать их по своему капризу, а ошибки во фронтовом учении не навлекут на них палочных и шпицрутеновых ударов…
— Это все говорите вы, — остановил Андреевича Муравьев, — а слышали ли вы, что говорят солдаты? Понимают ли они вас?
— Понимают, и еще как! — откликнулось несколько голосов.
— Есть, конечно, среди них люди, — продолжал Андреевич, — которые отвечают уклончиво, вроде того, что «дело это надо допрежь всего досконально обмозговать» или «Дай-то бог, чтобы облегчение вышло»; но имеются и такие, которые решительно заявляют, что готовы на все, ибо сознают, что солдатам все равно умирать, так уж лучше отдать жизнь за счастье своих братьев.
— Нужно только приобрести их доверие, — блестя глазами, убежденно произнес Борисов.
— А тогда, — с тем же увлечением добавил Кузьмин, — солдаты пойдут за нами на штурм самовластья с такою же беззаветною храбростью, как шли в самые опасные атаки на врага.
— Приобретение любви и доверия со стороны рядовых, — говорил Борисов, — сделалось ныне моей страстью, ибо без них, без солдатской массы, не может быть успеха в задуманном нами деле. На занятиях с ними по словесности мы применяем метод пропаганды свободолюбия, придуманный майором Раевским. В прописях, подлежащих, списыванию, мы пишем слова: «свобода», «конституция», «вольность». Для грамматического разбора даем такие предложения: «Миллионы скрывают свое отчаяние до первой искры» или: «Патриотизм есть светильник жизни гражданской».
— А я, сообщая правила о прописных буквах, — с улыбкой сказал Андреевич, — привел такие собственные имена, как Козьма Минин, Дмитрий Пожарский, Александр Суворов, Михайло Кутузов и даже Марат, и даже Риего… Люди стали расспрашивать о носителях этих имен, и в результате получился большой пропагандистский успех!
— Это замечательный прием для проведения нужных нам бесед с людьми, — сказал младший Борисов. — Правило о прописных буквах, коими следует начинать каждую стихотворную строку, я однажды применил на таком примере:
Пролита кровь сия была
Во искупление свободы…
— Сколь счастлив был бы тираспольский узник, когда бы узнал, что он не зря томится в крепостных стенах, — вспомнив о Владимире Раевском, с чувством произнес Бестужев-Рюмин, и его светлые глаза затуманились.
Во время горячих речей «славян» Горбачевский одобрительно кивал головой, и чем уверенней звучали их слова, тем радостней становилось у него на душе. Он так и впивался горячим взглядом в лица своих товарищей и при этом, как дирижер хорошо сыгравшегося оркестра, делал рукой короткие, но выразительные движения.
— А еще, — снова заговорил Андреевич, волнуясь, — мы обращаем внимание солдат на грабительство казною и помещиками тех многих миллионов граждан, кои кормят все наше государство трудом рук своих, сиречь на обездоленное прозябание крепостного крестьянства…
Кузьмин вдруг подошел к Муравьеву вплотную и, гневно глядя ему в глаза, отчеканил:
— Заявляю вам, милостивый государь, что коли понадобится, то я сам могу взбунтовать не только один Черниговский полк, но и целую дивизию. Нынче поручик Горбачевский сказал, что в Каменке решили еще чего-то ждать. Что ж, господам князьям и генералам любые сроки не страшны, над ними не каплет. А для народа продление тирании сулит неисчислимые бедствия, нестерпимые муки.
Сухинов тоже вскочил с места, и в его движениях и в высоко поднятом указательном пальце были тот же гнев и страстная нетерпимость.
— Вы, слышно, опять затеваете какие-то совещания в Петербурге и Киеве, — не громко, но с угрозой произнес он — ну, что же, совещайтесь, совещайтесь! Только помните одно: когда нам понадобится, мы сами найдем дорогу и на Петербург и на Москву… Так и передайте там господам северянам, мыслителям и резонерам… — он поклонился и, взяв Горбачевского за руку, быстро направился с ним к конюшням, где под навесом стояли их лошади.
Наступило долгое, тяжелое молчание.
Со стороны выезда из усадьбы донесся топот лошадиных копыт, а через несколько минут два всадника проскакали по мосту, переброшенному через речку Бакумовку. Их силуэты, как в темном зеркале, промелькнули в ее глади.
— Хорошо, что другие «славяне» не так себя держат, — глядя вслед скачущим офицерам, с большой грустью проговорил Муравьев, — а то к началу возмущения мы имели бы недисциплинированный отряд революционной армии, a gardeperdue note 20, как называет таких молодцов Лунин.
— Неужели в вашем Обществе нет никакого устава, никакой присяги? — спросил Бестужев у Борисовых.
— Ведь без дисциплины никакого дела начинать нельзя, — продолжал взволнованно Сергей. — Подчинение руководству — необходимое условие победы.
— Не беспокойтесь в этом отношении за «славян», Сергей Иваныч, — убежденно произнес старший Борисов. — Вступая в Тайное общество, они дают суровую клятву и сдержат ее при любых условиях.
— Скажите нам эту клятву, — потребовал Сергей.
Борисов встал со скамьи и, подняв, как для присяги, руку, торжественно заговорил:
— «Вступая в число „Соединенных славян“ для избавления себя от тиранства и для возвращения свободы, столь драгоценной роду человеческому, я торжественно присягаю в следующем: клянусь быть всегда добродетельным, верным нашей цели и соблюдать глубочайшее молчание. Самый ад со всеми его ужасами не вынудит меня указать тиранам моих друзей и их намерения. Клянусь, что уста мои тогда только откроют название сего Союза перед человеком, когда он докажет несомненное желание быть участником оного; клянусь до последней капли крови, до последнего вздоха вспомоществовать вам, друзья мои, с этой святой для меня минуты. Клянусь, что ничто в мире не будет в состоянии тронуть меня. С мечом в руках достигну цели, нами назначенной. Пройдя тысячи смертей, тысячи препятствий, — пройду и посвящу последний вздох мой свободе и братскому союзу славян. Если же нарушу сию клятву, то пусть угрызения совести будут первою местью за гнусное клятвопреступление, пусть… — Борисов быстрым движением извлек из-под мундира короткий кинжал и, прижав его на момент к своим губам, продолжал с пафосом: — Пусть сие оружие обратится острием в сердце мое и наполнит оное адскими мучениями, пусть минута жизни моей — вредная для моих друзей — будет последнею, пусть от сей гибельной минуты, в которую я забуду свои обещания, существование мое превратится в цепь неслыханных бед. Пусть увижу все любезное сердцу моему издыхающим от сего оружия в ужасных мучениях, и оружие сие, достигая меня, преступного, пусть покроет меня ранами и бесславием и, собрав на главу мою целое бремя физического и морального зла, выдавит на челе моем печать юродивого сына природы».
«А ведь Пестель был прав, сравнивая „славян“ с итальянскими карбонариями, — подумал Сергей, слушая слова клятвы, — это настоящие масоны из ложы „Свободных пифагорейцев“. Только у тех присяга пересыпана еще более энергическими заклинаниями. Там сказано еще, что в случае измены каждый из них должен быть готов к тому, чтобы „тело его было разорвано на куски, брошено в огонь, обращено в пепел, рассеяно по ветру, а имя вызвало омерзение у масонов всего мира…“