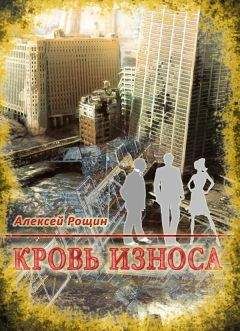— В самом деле штука! — сказал Сергей Филиппович. — Ну, хитер он, разбойник! Да и то сказать, что за народ у этого князя Владимира Павловича: дворецкий — соня, людишки — дрянь! Да их не только разбойник с ружьем, а простой мужик с рогатиною на большой дороге ограбит. Я помню, однажды на отъезжем поле князевы собаки остановили волка. Как вы думаете? Ведь никто из его охотников приступиться к нему не смел; и если бы не мой стремянный, так они наверное бы его упустили; кричат издалека: тю-лю-лю-лю-лю, а никто спешиться не хочет. Хуже баб! Ну вот, ни дать ни взять как людишки двоюродной моей сестры, Авдотьи Павловны Хлестовой; да и те, чай, бойчее стали с тех пор, как побывали в переделке у Рощина. Ну, эта штука была также славная.
— А что это, сударь, за случай был такой? — спросил Зарубкин.
— Да такой-то случай, что когда сестра стала мне об этом рассказывать, так я, видит бог, расцеловал бы этого разбойника. Вот послушай, любезный, какая была оказия. Прошлого лета сестра поехала, из каширской деревни, повидаться с родственником своим, пронским воеводою. Она ехала в четырех повозках, и с нею человек десять людей, ребята все молодые и не с пустыми руками: у троих были даже ружья. Верстах в пятидесяти от города Пронска остановил их на большой дороге Рощин. Он был только сам-четверть; но лишь крикнул на сестриных людей, так эти плюгавцы тут же и повалились ему в ноги. Рощин велел их всех перевязать, а сам подошел к сестре, снял шапку и начал просить, как будто бы из милости, чтоб отдала ему все деньги, которые с нею были. Разумеется, сестра не стала с ним торговаться, и когда он обобрал ее кругом, так, видно, с испугу и, не понимая сама, что говорит, сказала: «Батюшка! что ты со мною сделал! ведь мне не с чем будет доехать до Пронска!» — «Да, боярыня, — отвечал Рощин, — тебе еще раза два покормить придется, а кормы ныне дорогие. Нечего делать, на тебе, сердечная, рублевик взаймы». — «Да как же я тебе отдам?» — сказала сестра, которая все еще не могла порядком образумиться. «Все равно, матушка, отдай нищим; пусть молятся за Кузьму Рощина». «Теперь я поговорю с вами, слуги верные, — продолжал он совсем уже другим голосом, обращаясь к связанным людям. — Так-то вы, негодяи бережете вашу добрую боярыню! Экие болваны! Десять человек дали себя перевязать четырем разбойникам! А еще с ружьями! Вы только хлеб-то барский есть умеете, хамы проклятые, небось, никто из вас руки не отвел, чтоб оборонить вашу кормилицу. Да уж не изволь беспокоиться, матушка, — прибавил он, обращаясь опять к сестре, — я задам им добрую баню; не станут вперед выдавать тебя руками первому встречному разбойнику. Эй, молодцы! в плети их! Перебирай всех поодиночке! Да у меня, смотри, чур, не мирволить!» Что ж ты думаешь, братец: ведь в самом деле он так их всех отодрал, что они и теперь еще спины у себя почесывают!
— Ну, молодец, — вскричал Зарубкин, — и придет же в голову пересечь людей за то, что они ему без драки покорились? Ай да Рощин!
Вошел слуга и доложил, что кушанье готово.
— Жена, — сказал Сергей Филиппович, вынимая из камзольного кармана свои огромные серебряные часы, — что мы сегодня так рано ужинаем?.. Эге, да как же мы заболтались! — продолжал он, вставая, — девять часов, десятый. Иван Тимофеевич! Алексей Артамонович! милости прошу. Жена, веди Владимира Ивановича — ведь он твой гость, да смотри не больно с ним перемигивайся — я и так уж давно за вами примечаю.
После ужина все разошлись по своим комнатам. Зарубкину и купцу отвели ночлег в одном из флигелей дома, а драгунскому офицеру, по собственному его желанию, приготовили постель в садовой беседке, которая одной стороной обращена была к сосновой роще, а другой к господскому дому и соединялась с ним длинною, обсаженною липами, дорожкою. Во время ужина небо совершенно прочистилось; затих холодный северный ветер; и, когда офицер вошел в сад, легкий южный ветерок повеял на него ароматом от сосновой рощи и обдал своею весенней теплотою. Войдя в беседку, он сказал мальчику, который дожидался его со свечою, что не имеет никакой надобности в его услугах. Мальчик ушел, а офицер, оставшись один, вышел на крыльцо беседки. В господском доме светились еще кой-где огоньки. Вот они стали тухнуть понемногу. Через полчаса все окна потемнели, и только сквозь одно, задернутое белой гардиною, проникал слабый, едва заметный свет лампады, которая горела перед образами в спальной Варвары Дмитриевны Ильменевой. Прошло еще около часу, и вдруг в самом крайнем окне замелькал яркий огонек. Офицер встрепенулся; как в минуту отчаянного боя, забилось его ретивое; он спрыгнул с крыльца и, пробираясь подле самых деревьев, пошел по дорожке, ведущей к дому. Ночь была темная, и не только под кровом ветвистых лип, но даже и на открытом месте нельзя было в двух шагах различать предметы; однако ж он робко посматривал вокруг себя и как будто прислушивался к собственным шагам. Не дойдя до конца дорожки, он повернул в сторону, продрался сквозь куртину плодовитых деревьев, перемял несколько кустов смородины, развел голыми руками два куста колючего крыжовника и вышел к самому дому; потом, прокравшись вдоль стены, подошел к открытому окну, против которого на небольшом столике стояла зажженная свеча.
— Вы ли это, Владимир Иванович? — раздался едва слышный шепот.
— Да, это я, — отвечал офицер прерывающимся от сильного чувства голосом.
— Тише, бога ради, тише!
Огонь погас, и через минуту послышался опять прежний шепот.
— Подойдите ближе к окну!.. Вот так! Боже мой, как на дворе светло!.. Ни одного облачка.
— Не бойтесь! Теперь уж поздно, ночь темная...
— О нет!.. Посмотрите, как эти звезды блестят… От них светло как днем! Ну, если садовник вас видел?
— Успокойтесь! Кругом все тихо, все спят.
— Ах, Владимир Иванович! я чувствую, что делаю очень дурно; но мне нужно было переговорить с вами; мне кажется, я не пережила бы этой ночи, если б не высказала вам всего, что у меня на душе. Послушайте! Для чего сегодня вечером ваш батюшка говорил о дочери этого Побирашкина? Почему он думает, что она вам нравится?.. Где вы с ней виделись?.. Когда?.. Не правда ли, она очень хороша собою?..
— Что вы, бог с вами, Марья Сергеевна! Да она только что не урод.
— Нет, нет, она лучше меня; у нее большие черные глаза...
— Но можно ли их сравнить с вашими?
— Прекрасный рост...
— И одно плечо ниже другого.
— Так вы заметили...
— Да, это в глаза бросается!
— Но зато она так мила, так умна!
— Помилуйте! Двух слов не умеет сказать сряду.
— Неправда, она умней меня. Но только знайте, что она презлая.
— Какое мне до этого дело!
— Ваш батюшка, как видно, очень хочет, чтоб вы на ней женились.
— Может быть, да я не хочу.
— Но если он станет вас упрашивать, будет каждый день говорить одно и то же?
— Не беспокойтесь; я завтра же ему скажу, что терпеть не могу этой Побирашкиной.
— О, как вы облегчили мое сердце! — сказал Машенька, прижавши к груди свою руку. — Если б вы знали... если б ты знал, Владимир, что я чувствую!
Слезы прервали слова ее. Она отошла от окна и, рыдая, упала на колени пред иконой божией матери.
— Что вы, Марья Сергеевна? Что с вами? — вскричал с беспокойством офицер.
— Ничего, — сказала она, подойдя опять к окну и подавая Владимиру свою руку, которую он покрыл пламенными поцелуями. — Мне теперь так весело, так легко! — говорила Машенька, а между тем крупные слезы капали из-под ее густых ресниц.
Бедная девушка, доверчивая, как дитя, не думала о будущем; она была счастлива в эту минуту, и, как тихое весеннее утро, в которое и дождь и солнышко беспрерывно сменяют друг друга, она и плакала и улыбалась почти в одно время.
— Так вы не послушаетесь вашего батюшки, — шепнула она наконец, — не женитесь на ней?
— Ни за что на свете!
— Милый Владимир! Но если ваш батюшка потребует, чтоб вы непременно на ком-нибудь женились... В нашем соседстве так много молодых девушек...
— Я вам клянусь, что ни одна из них не будет моей женою.
— Я верю вам, Владимир Иванович! Но, несмотря на то... Ах, эта неизвестность так мучительна! Один раз легче умереть, чем умирать каждый день... Откройтесь во всем вашему батюшке; пусть он поговорит…
— С отцом вашим? — прервал Владимир. — И вы думаете, что он спокойно его выслушает? И вы надеетесь, что ваш отец, богатый родовой дворянин, отдаст за меня дочь свою?
— Да чем же вы хуже других? Вы офицер, ваш батюшка человек благородный...
— Но отец его... Нет, нет! Зачем себя обманывать? Не бывать этому никогда; не судил нам господь в этой жизни быть счастливыми! Божий рай на небесах, Марья Сергеевна, а мы с вами живем на земле.
— Но для чего же вам отчаиваться? Я уверена, добрая матушка с радостью благословит меня, а батюшка... Да вы не знаете, как он меня любит! Он тысячу раз говорил, что отдаст меня только за того, кто будет мне по сердцу.