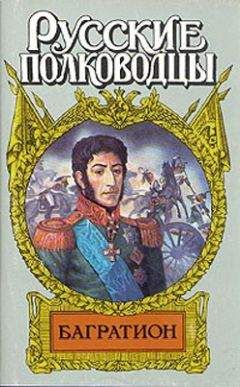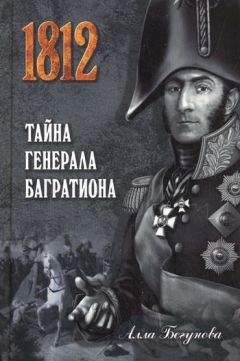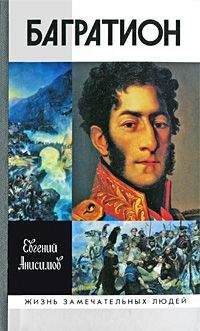Слух о ранении и даже смерти Багратиона быстро распространился между солдатами и, по словам Ермолова, привел их в полное отчаяние, так что в рядах их обнаружилось замешательство, ввиду которого Коновницын, заступивший место Багратиона, не признал возможным дальнейшую борьбу за флеши и отошел за Семеновский овраг.
В Москве лечение Багратиона пошло сперва относительно успешно, но переезд из Москвы в имение его друга, князя Б. Голицына, Симы Владимирской губернии по тряской дороге, дурная осенняя погода и скорбь от потери Москвы повлекли осложнение болезни, опасное для изнуренного беспрерывной походной боевой жизнью организма героя. Предложение врачей ампутировать ногу «повлекло гнев князя» — и 12 сентября он скончался в Симах в страшных мучениях.
27 лет спустя император Николай I повелел воздвигнуть памятник на Бородинском поле, приказал перенести к подножию его и останки Багратиона. Император Александр III увековечил память героя наименованием 104-го пехотного Устюжского полка его именем.
Багратион — редкий тип народного и солдатского героя, по единому слову и знаку которого войска готовы были умирать и все переносить. Вообще Багратион был скромного и относительно спокойного характера, но иногда очень вспыльчив, хотя гнев его проходил быстро; зла не помнил и никогда не мстил. Стоял всегда на страже интересов своих офицеров и солдат, входя в их быт и деля с ними все тягости боевой жизни, он пользовался замечательным уважением и любовью своих войск. Своим образом жизни в походе и на войне Багратион напоминал Суворова, подавая пример нетребовательности и выносливости: он спал всегда одетым, не более 3–4 часов в сутки, был неприхотлив в пище и жилье. Как стратег Багратион считается до сих пор ниже многих русских полководцев, однако за всю его долгую боевую деятельность нельзя указать в ней каких-либо стратегических ошибок; наоборот, ему постоянно приходилось искупать своим умением и упорством в бою крупные промахи своих начальников; как главнокомандующий в войну 1809 г. он был вполне на высоте призвания, а как командующий армией в 1812 г, он был связан директивами сперва Барклая, а потом — Кутузова.
Анне — моей жене и другу — с любовью
Автор
Часть I
Вровень с вершинами
Князь Багратион — наиотличнейший генерал, достойный высших степеней.
А. В. Суворов
Светлейший в своем сером засаленном халате лежал на диване, покрытом роскошным персидским ковром, и предавался нередко посещавшей его лени[1].
Единственный зрячий глаз полузакрыт, круглое лицо выражало полнейшее равнодушие.
Неожиданно веко, темное и набрякшее, дрогнуло, и рука, нашарив на овальном, искусно инкрустированном столике бутылку с квасом, поднесла ее к губам.
— Фу! Во рту — будто ночевала рота солдат… Однако довольно сибаритствовать — дела для меня всегда важнее куртагов… На чем это я давеча остановился?
Потемкин поднялся, отчего половинки халата разъехались в стороны, обнажив волосатую грудь и мощный торс, и, отпихнув локтем питье, подвинул к себе исписанные листы.
Глаз ухватил слова: «…чтобы полуостров Крымский не гнездом разбойников и мятежников на времена грядущие остался, но прямо обращен был на пользу государства нашего в замену и награждение осьмилетнего беспокойства, вопреки миру, нами понесенного, и знатных иждивений, на охранение целости мирных договоров употребленных».
«Сама матушка[2], чаю, отменнее не выразила бы сию наиглавнейшую мысль, — одобрил себя Григорий Александрович. — Ноне закончить рескрипт и тут же — ей на подпись. Однако найдет, ох, непременно найдет, что поправить! Что ж, ум хорошо, а два — надежнее. Ведь бумага не столь мне, генерал-фельдмаршалу и генерал-губернатору Екатеринославскому и Таврическому, будет предназначаться — всем государям европейским. Рескрипт российской императрицы — сиречь манифест о навечном присоединении Крыма к державе нашей. Ну а на мне, когда секретнейший сей манифест апробирует государыня, будет лежать главное — указанное на бумаге обратить в явь. А до той поры рескрипт будет значиться волеизъявлением наисекретнейшим, дабы мне и моей армии развязать руки и предоставить волю неограниченную. Но эта-то воля — и страшная западня: хочу-стражду новых земель для России и немеркнущей в веках славы для себя, а в закладе — собственная голова. Так-то!..»
Еще в 1774 году — аккурат восемь лет тому назад — был сделан первый шаг к присоединению Крыма. Тогда по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору Турция возвратила России прежние завоевания Петра Великого. Но, сверх того, все татарские земли к северу от Черного моря, включая Крымское ханство, получили независимость от Порты.
Передавалась России и древняя Керчь, бывшая издавна «ключом от Крыма». Сие означало, что обеспечен свободный выход из Азовского моря в Черное. А чтобы тверже стоять в Причерноморье, России отходила и крепость Кинбурн близ устья Днепра. Таким образом, на юго-западе граница Российской державы пролегала по Южному Бугу, а на востоке по берегу реки Кубани.
Но что статьи послевоенного договора, коли война в сих новых пределах тлела, как уголья под золою в, казалось бы, уже потухшем костре, а то нет-нет да и прорывалась настоящим пламенем! Войска русские имели власть над сушею и водными пространствами, а душами людей, по-прежнему проживающих в тех краях, управляла власть религиозная, иначе говоря, власть той же Турции. Разве не знак неустранимой сей власти, коли, султан из Стамбула решает, кому, быть ханом в том же Крыму?
Посему и вспыхивали под золою зловещие уголья то в одном, то в другом конце полуострова, а еще тревожнее — перекидывались волнения на Кубань.
Так далее не могло продолжаться. Требовалось и укрепить военную силу в новых землях, и быстрее их осваивать и заселять. Чтобы не оставались сии пространства гуляй-полем, где раздолье для разбоя и набегов, а становились краем новых русских городов и крепостей.
Суворова[3] — вот кого определил Потемкин в начальники Кубанского, а вскоре и Крымского корпуса. Решительный и скорый генерал быстро и твердо установил порядок в Новороссии. И так же бурно заклокотала созидательная силушка самого светлейшего. Первым городом, что он заложил здесь, был Херсон в устье Днепра, названный так в честь первых в здешних местах греческих поселений.
То был вызов — новый город с крепостью, корабельными верфями и Адмиралтейств-коллегией невдалеке от мощного оттоманского форпоста — Очакова. А следом закладывался Севастополь в Крыму. Как сотоварищ Херсона намечался Николаев на Буге и главный оплот всего приращенного юга — Екатеринослав.
Все же по прошествии сих славных деяний ныне, с самого разбега нового, 1782 года, содеянное виделось светлейшему князю, фельдмаршалу и генерал-губернатору Новороссии лишь подступом к тому грандиозному и решительному, что следовало еще свершить.
Дабы Крым и Черное море стали целиком и навсегда российскими, следовало и все Причерноморье сделать российским тоже. А для сего очистить от давнего и коварного врага земли, что лежат и за Южным Бугом и Днестром — земли исконно славянские, греческие, и молдавские, подпавшие измором, истязаниями и разбоем под оттоманское иго.
Не изыдет само сие иго с лика тех земель и не станет прочного и надежного мира на новых русских землях, коли над ними, как зловещая тень, будет простираться десница Порты.
Но как сломать ту силу, как продвинуться хотя бы на шаг далее Херсона, скажем, взяв тот же неприступный Очаков? Тут мало и Суворова и Репнина. Тут даже и он сам, неограниченный властителе всех южных краев, генерал-фельдмаршал и вице-президент Военной коллегии, — не вся надежда и опора. Все должны решить сила и время. Пожалуй, в первую очередь могущественный и всепокоряющий бог Хронос, сиречь время по-русски…
В дверь кто-то робко постучался — раз и другой. И через несколько мгновений в чуть приоткрытую створку просунулась очаровательная, в золотых локонах головка.
— Катенька! Радость моя! Да как же можно, чтобы так вот — с нерешительностью, когда я тебе во всякую минуту несказанно рад? Ну заходи, счастье мое, мое золотце.
— Так я же теперь, любезный дяденька, дама… замужняя. Вроде не принято…
Господи, как она сейчас была хороша — небольшого роста, в белом атласном платье и с высоко взбитой прической, с большими серыми глазами, с ангельским милым личиком, его самая любимая племянница!
— А коли ты замужем, выходит, родному дяде и не рада?
— Ой, да что бы, милейший дяденька, как же можно, что я вдруг и переменилась к вам? Нет, теперь, после свадьбы, я вдруг особенно поняла, что от вас — никуда, что всею душою я — только с вами.