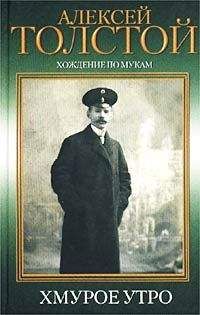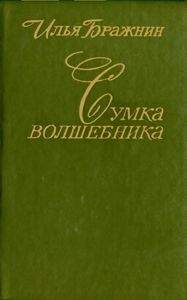Толстый Носырин всплеснул короткими руками:
— Тебе бы, Любочка, следовало за него выйти замуж из благодарности.
— Не состоится, неподходящая партия, — с едва заметной гримасой бросил Петя и покосился на недавнего своего спасителя.
Илюша перехватил этот быстрый брезгливый взгляд и украдкой осмотрел себя. Выношенная до лоска, короткая в рукавах куртка, потертые брюки, старый потрескавшийся ремень, — осмотр не доставил ему особого удовольствия.
— Ну вас, — отмахнулся он, досадливо нахмурясь, и поспешно достал из парты книгу, — история сейчас, надо хоть просмотреть.
— Учись, учись, премудрый гимназист, — одобрил Ширвинский и стал в позу. — Ученье сокращает нам опыты быстротекущей жизни.
— Кстати, и самую жизнь, — вмешался высокий грузный Никишин.
Ширвинский раздул ноздри и повел носом.
— Кажется, пахнет философией, — сказал он, насмешливо щурясь.
— Кажется, так перекрестись, — буркнул Никитин, метнув Тита Ливия в парту.
Ширвинский с комической серьезностью перекрестился.
Никишин поднял на него пристальные, металлического блеска глаза, взбил широкой ладонью и без того взъерошенные волосы.
— Балда, — сказал он сосредоточенно и серьезно, — блестящая, законченная, кристаллическая, химически чистая балда.
Вторым уроком была история. Преподавал её классный наставник Степан Степанович Степанов. Седоусый, с белой гривой волос на голове, с университетским значком в петлице аккуратного, без единой пылинки сюртука, Степан Степанович был неукоснительно строг и взыскателен. Но в строгости его не было ненавистной гимназистам придирчивости. Никто не числился у него в любимчиках, никто не был записан в безнадежные. Каждый из учеников, даже лучший из них, мог получить двойку, если он того заслужил, и любой мог исправить двойку на пятерку, если добросовестно приготовил урок. С учениками Степан Степанович был прям, открыт и жестко справедлив. Гимназисты, если и не любили Степана Степановича, то во всяком случае уважали.
Урок начался с выговора Никишину за опоздание на молитву, прошел в степенной и суховатой тишине и кончился скорострельным перечислением хронологических дат, что мастерски проделал Санька Шошин. Усердной скороговоркой и без запинки он перечислил даты важнейших событий царствования Екатерины Второй, победоносно огляделся и сел на место. Степан Степанович, любивший хронологию, удовлетворенно крякнул и поставил Шошину пятерку.
Звонок избавил семиклассников от дальнейших блужданий по темным закоулкам исторического прошлого. Через десять минут новый звонок собрал класс на урок немецкого языка. Иван Карлович Гергенс, слабохарактерный и сутулый добряк немец, даже с младшими классами управиться не мог, семиклассники же делали с ним всё, что им заблагорассудится.
Класс на уроке немецкого языка представлял собой довольно живописное зрелище. Каждый из учеников выбирал себе занятие по собственному вкусу, нимало не заботясь о том, чем занимается сам Иван Карлович. Ширвинский, перегнувшись через парту, забрал с учительского стола классный журнал и высматривал в нем отметки за всю неделю. Старательный Шошин решал к уроку математики биквадратные уравнения. Носырин, оттопырив жирные губы, внимательно вырисовывал мясистые бедра некой, прелестницы. Жоля Штекер, утешаясь после неудач, постигших его на уроке латыни, играл с Петей Любовичем в двадцать одно.
Никишин, подперев ладонями лобастую голову, с увлечением читал изрядно потрепанную книгу. Сосед его, большеголовый и нескладный Митя Рыбаков, переписывал что-то с пожелтевшего листка в тетрадку.
На задних партах, называемых «Камчаткой», четыре второгодника, обнявшись, тихонько выпевали «В гареме нежится султан».
Так незаметно проходил урок. Уже оставалось до звонка всего десять минут, уже второгодники, давно покончив с султаном, перешли на «Быстры, как волны», уже Носырин дорисовывал свою пухлую прелестницу, уже Петя Любович выигрывал у Жоли Штекера последний пятак, когда посредине класса, неслышный и стремительный, появился инспектор гимназии Адам Адамович Куликов.
По классу прошла короткая судорога. Второгодники смолкли и выпрямились. Ширвинский ловко подкинул журнал из-под парты на учительский стол. Носырин с неуловимым проворством распахнул немецкую хрестоматию и сунул недорисованную прелестницу под, белоглазого Гёте. Колода карт, как по волшебству, исчезла с парты и очутилась в кармане Пети, а сам он с чрезвычайной внимательностью смотрел прямо в рот Ивану Карловичу, причем, ко всеобщему изумлению, обнаружилось в наступившей тишине, что Иван Карлович с чувством декламирует «Лорелею».
Все выказали удивительное проворство, и только двое отстали в общем движении — Никишин и Рыбаков. Они, видимо, не были так расторопны, как остальные, и больше других увлечены были своим делом. Они и стали жертвами зоркоглазого и вездесущего инспектора, в один миг очутившегося возле их парты.
— Позвольте тетрадочку, — сказал он медовым голосом и протянул к Рыбакову тонкую сухую руку.
Рыбаков вздрогнул от неожиданности и прикрыл тетрадку рукавом.
— Позвольте же, — настойчивей повторил инспектор и взял тетрадку двумя пальцами за угол.
Рыбаков побагровел и дернул тетрадку под парту. Там принял её Никишин и передал назад. Через минуту тетрадка, обойдя под партами едва не полкласса, лежала во внутреннем кармане Илюшиной куртки.
— Встаньте, — скомандовал Адам Адамович, убирая с парты руку.
Рыбаков и Никишин встали. Иван Карлович, забыв о золотоволосой Лорелее и испуганный не меньше учеников, молча топтался возле учительского стола. В классе стояла мертвая тишина.
— Так вы не отдадите тетрадочку? — вкрадчиво выговорил Адам Адамович, подаваясь всем корпусом вперед, будто собираясь прыгнуть на Рыбакова.
— Нет, — ответил Рыбаков твердо, хотя и очень тихо.
Адам Адамович выстеклил на Рыбакова круглые птичьи глаза и сделал большую паузу, выжидая, не прибавит ли Рыбаков ещё чего-нибудь. Но Рыбаков стоял с плотно сжатым ртом и глядел куда-то в сторону мимо инспектора.
— Хорошо-с, — выговорил наконец Адам Адамович с неожиданным спокойствием, но приметно бледнея, — очень хорошо. Ну, а вы? — Он повернулся к Никишину. — Что это за книга, которую вы спрятали в парту?
— Я ничего не прятал в парту, — отрезал Никишин.
— Так-так, — кивнул Адам Адамович. — Вы ничего не прятали в парту и вы ничего не читали, когда я вошел?
— Ничего не читал, — упрямо повторил Никишин.
— А вы как полагаете? — обратился Адам Адамович к сидевшему за спиной Никишина Ситникову. — Вы должны были видеть всё происходящее.
Маленький Ситников вскочил с места и смущенно одернул заношенную куртку.
— Ну-с? — выговорил Адам Адамович нетерпеливо. — Что же вы молчите, когда вас спрашивают?
Ситников потупил глаза, но продолжал молчать. Адам Адамович заложил руки за спину:
— Отлично-с, отлично-с. Никишин ничего не читал, Рыбаков ничего не писал и никакой тетрадочки в руках не держал, когда я вошел в класс. Всё это мне показалось. Всё это, так же как и неприличные для старшеклассников шум и крики и даже пение, — лишь плод расстроенного моего воображения. Не так ли?
Адам Адамович вопросительно повернулся к Носырину. Толстяк тупо уставился на инспектора. На прыщеватом лице его выступил пот. Адам Адамович оглядел класс и сказал, ни к кому не обращаясь:
— Как это ни неприятно, но я принужден доложить о поведении класса директору. После уроков прошу не расходиться.
Адам Адамович повернулся и, раскачиваясь на длинных ногах, стремительно умчался из класса.
— Кулик чертов… — бросил ему вслед Никишин, приподнимаясь и сжав кулак.
Рыбаков дернул его за рукав и посадил на место. Иван Карлович вернулся к оставленной Лорелее. Голос у него дрожал.
— Жандарм! — снова выругался Никишин и, вытащив из парты спрятанную книгу, раскрыл её.
— Интересно? — спросил, оборачиваясь, Носырин. — Что-нибудь Арцыбашева?
— Угу, — буркнул Никишин.
— После дашь почитать?
— Отвяжись.
Никишин уткнулся в книгу и загородил её от Носырина ладонью. Это были «Записки бунтовщика» Кропоткина. Носырин попытался заглянуть сбоку в книгу, но Никишин показал ему увесистый кулак, и Носырин принялся дорисовывать оставленную было прелестницу. За спиной его поднялся обычный шумок. Застучали крышки парт, густо откашливались обитатели Камчатки. Петя Любович извлек из кармана карты и поставил в банк новенький гривенник.