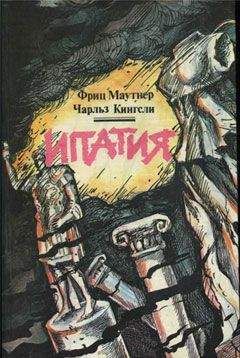Рабовладельческая империя «вечного города», Рима, пришла к своему концу.
Но грандиозное движение низов проходит мимо поля зрения благонамеренного английского романиста. Казалось бы, что Кингсли, видевший могучую поступь рабочих батальонов в чартистском движении, мог почувствовать шатание рабовладельческого пьедестала, на котором зиждилась Римская империя. Но Кингсли – богослов – одержал верх над Кингсли – социальным реформатором. Правда, само христианство уже изменилось – из религии общественных низов оно переродилось в религию имущих, бежавших от государственных тягот, и в то же время манившую всех обездоленных и отчаявшихся великолепным зрелищем Нового Иерусалима и Нового Сиона, будущим царством праведников, если не на земле, то во всяком случае в новом эоне, в небесном царстве. И, тем не менее, даже эта переродившаяся христианская церковь давала широкой народной массе больше, чем государство. Пусть это переродившееся христианство не посягало на «основы» и, провозглашая равенство всех перед Божеством, вовсе не стремилось уничтожить земное рабство, все же своими благотворительными организациями оно давало какой-то выход тяжкой нужде. Отсюда успех тех же александрийских «параболанов» Кирилла, которые не только растерзывали таких противников христианства, как Ипатия, но и занимались благотворительной деятельностью среди низов такого городского центра, как Александрия. Если церковник Сальвиан горестно замечал: «Мы стыдимся не порока, а добродетели», то еще в забитой народной массе тлела надежда на своих церковных вождей, которые, по крайней мере, обещали компенсировать наградами в потустороннем мире все тяготы в настоящем.
Столь же грозны были и политические события, сопровождавшие эти видоизменения в классовой структуре поздней Римской империи. В августе 410 года вождь вестготов, Аларих, захватил и разграбил «вечный город», Рим. Вестготского предводителя тщетно пугали многочисленностью населения Рима. Как передает историк Зосим, Аларих иронически ответил на эти предостережения: «Чем гуще трава, тем легче ее косить». Можно думать, что Аларих был прекрасно осведомлен о настроениях римского населения и очень мало боялся его многочисленности – в августовскую полночь городские рабы и бедняки открыли ему саларийские ворота Рима, и в первый раз за все свое существование столица империи была захвачена неприятелем.
Смерть постигла Алариха в этом же году. Его преемник Атаульф заключил мир с империей и удалился в Галлию.
Как раз во время этих длительных и сложных переговоров бездарного и ленивого императора Запада, Гонория, с Атаульфом произошел мятеж наместника Африки, Гераклиана, служащий фоном заключительных сцен «Ипатии». Сам Гераклиан представлял типическую фигуру бесцеремонного претендента на шатающийся престол Римской империи. Лукавый царедворец, коварный убийца Стилихона, хотя и «варвара» по происхождению, но одного из последних крупных римских полководцев, человек, не побрезговавший после разгрома Рима Аларихом торговать бежавшими в Африку римскими женщинами и девушками, Гераклиан оказался бездарным полководцем, и, будучи разбит в Италии, был позорно обезглавлен в Карфагене, столице управляемой им провинции. Интересно отметить, что именно здесь роман Кингсли анахронистичен. Гибель Гераклиана произошла в 413 году, смерть Ипатии в 415 году, но Кингсли стянул оба события почти что в один хронологический момент для того, чтобы оправдать свою фабулу о бракосочетании Ореста и Ипатии. Это последнее событие – «поэтическая вольность» английского романиста, следующего здесь главным образом Сократу, который, пытаясь выгородить Кирилла, приписывал неистовство александрийской толпы в расправе над Ипатией господствовавшему якобы в Александрии убеждению, что влияние воинствующей представительницы эллинизма мешает примирению наместника Ореста, этого представителя светской власти, с Кириллом, духовным главой христианской Александрии. Эта вольность была бы простительна, если бы Кингсли не прошел совершенно мимо того грандиозного социального фона, на котором развертывались изображаемые им события.
Если революционное движение масс поздней античности прошло мимо Кингсли, то не следует удивляться, что и сами христианские деятели у него даны крайне однообразно и монотонно. Для них у него есть только две квалификации – хорошие и дурные, пользующиеся симпатией автора и лишенные таковой. Зато совсем упущена социальная характеристика христианства IV—V веков. В эту эпоху официальная церковь все более и более делается оружием в руках рабовладельческой верхушки, благо сама по себе церковная организация еще пользуется в известной степени народными симпатиями и доверием.
В этом отношении характерен эпизод с антисемитским выступлением Кирилла.
Александрийские евреи уже со времен птоломеев пользовались рядом существенных льгот и известным самоуправлением, что, однако, не мешало Александрии быть одним из центров античного антисемитизма и даже погромных выступлений против еврейского населения. Правящие александрийские круги всегда умело пользовались этими антисемитскими выходками в своих собственных интересах, и их достойным наследником в этой почтенной деятельности оказалась христианская церковь. Без всякой санкции со стороны императорской власти христианский епископ повел фанатических монахов и городскую чернь на приступ еврейского квартала Александрии, который был разграблен, а захваченное имущество было разделено между ревнителями веры. Несомненно, что этот погром носил демагогический характер, что религиозный фанатизм александрийских христиан был использован Кириллом для того, чтобы сделать богатое еврейство ответственным за нужды александрийского простонародья.
Характерны и последствия этого «геройского» поступка. Когда префект Египта, Орест, пожаловался на самоуправство Кирилла императорскому правительству, то науськанная архиепископом банда нитрийских монахов чуть не расправилась с префектом на улице. Захваченный на месте преступления монах Аммоний был казнен по приказания Ореста, но под новым именем «Таумасия» – «удивительного» – был причтен к лику мучеников Кириллом. Вся эта антисемитская инсценировка была достойной увертюрой к растерзанию Ипатии. Нельзя, конечно, сказать, что Кингсли симпатизирует этим подвигам Кирилла, но весь этот эпизод изложен им так спокойно и объективно, что эта невозмутимость английского джентльмена и духовного лица приобретает какой-то сомнительный характер.
И тем не менее истина может оказаться сильнее самого автора. Пусть роман Кингсли неглубок, пусть он односторонен и идеалистичен, – сами факты, изложенные в нем, вопиют и рассказывают вполне недвусмысленную повесть о том, как победившее христианство показало черты самой резкой религиозной нетерпимости, фанатизма и ненависти.
Эпоха падения древнего мира и торжества христианства очень бледно освещена художественным творчеством. Это и понятно. Еще так недавно эта область истории была под строгим табу – либо прямого запрещения, либо своеобразного лицемерия. Кингсли, как типичный англичанин викторианской эпохи, не мог, конечно, раскрыть глубокого социального смысла того переворота, который отделяет древний мир от европейского средневековья. Но он имел смелость взять сюжетом своего романа такой исторический эпизод, где самое елейное благочестие было бессильно обелить действия христианской иерархии, хотя сам Кингсли входил в ее ряды. Более того, и сами исторические факты, поскольку они доступны историку, изложены им в их подлинном виде.
И эти упрямые факты – слабость государственной власти, рост церковной тирании, погромные действия христианского святого, жуткая сцена умерщвления Ипатии – сами по себе таковы, что почти не требуют комментариев и до сих пор оказывают должное действие на всякого, кто ознакомится с ними. Сентиментализм Кингсли в изображении «подлинного» христианства, его христианские настроения в обрисовке созданных его художественной фантазией лиц объясняются его социальным положением и по своей некоторой наивности легко могут быть вскрыты при аналитическом отношении к роману и его автору.
Всякий исторический роман есть сложный результат двух слагаемых: во-первых, эпохи, в которой жил автор, и его положения в ней, и во-вторых, эпохи, описываемой в романе. А в восприятии такого романа действует еще третий фактор – эпоха, к которой принадлежит сам читатель и общество, в котором он живет.
Именно наш современник обладает всеми данными для того, чтобы оценить правильно факты, изложенные Кингсли, отношение автора к ним и, что еще важнее, установить свое собственное отношение и к этим фактам и к их сюжетной расстановке.
Проф. П. Преображенский