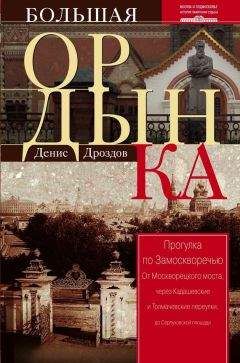— Боже мой, да кто ж тебе, Федя, окромя холопа твоего вечного Борьки, правду-то скажет? Мы ж с тобой кака-никака, а родня. Кому ж как не мне радеть за тебя первому? Хоть и не дождёшься от тебя, прости за дерзость, благодарности. Кто я тебе? Вот вскорости спнут меня, ты и словом ласковым шурина не помянешь…
— Боря, родной, да ты что? Ведь Аринушка да ты… Вы ж у меня всё равно… два глазочка. — Впечатлительный Фёдор не вынес упрёков, пустил слезу.
Не звавший такой отдачи боярин смутился. Не хватало ему ранней падучей. Тут бы задуманное обстряпать сжато и поскорей — к завтра, до возможного схлёста с Думой. Согласия и поддержки царя, причём немедленно — вот чего ждал Годунов.
Уговоры не помогли. Фёдор плакал непрерывно и навзрыд. Унять его теперь мог лишь один человек — нежная супруга Ирина. Борис Фёдорович не замедлил прибегнуть к помощи сестрицы.
Вскоре царёв духовник вернулся со статной лучеглазой женщиной. А спустя полчаса шурин спокойно подводил государя к мысли о возведении на рубежах с башкирами и ногаями новых заградительных «орешков». По словам Бориса, для прикрытия уязвимых участков юго-востока скорейше требовалось заложить крепости в Поволжье: на Увеке, на Уфе, на Белом Воложке и близ волжской излуки — гнездовища казаков.
— А люди из Разрядного приказа стены весной ещё разметили. Цифирью бревна и доски меченые ждут в нужном месте сплава, чтоб скорейше крепостёнки сбить…
Изредка хлюпающий царь до конца не слушал и полностью одобрил затею, узнав, что град на Самаре-реке собирался воздвигнуть его великий отец.
— Слаб я умом. В государстве плохо разумею, так уж мне грех хоть бы замыслов ума вельми премудрого не завершить. С богом, Боря, сполняй батюшкину волю. И не серчай, что я те худой поплечник.
Такой вот добрины удостоил великий государь задумку правящего шурина.
Пшибожовский имел все основания считать, что новое его злодейство умрёт без шума. Чистую православную душу с польских гнусностей выворачивало, как с «гостинцев» золотаря. Однако на сей раз шляхтич дал оплошку. Недалече за кучей отбросов хоронился нищий Свиное Брюхо.
Бедолага только присел по главной надобности, а тут шум и свалка. Жалким червем врылся Свинобрюх в помои и, едва уняв колотун, притаился. Поневоле отследив событие, оборванец благополучно переждал грозу и, припадая на обе ноги, почапал в коронный нищенский закут за Яузой.
Пополудни, обшагивая растопырившуюся в спячке «знать», Свинобрюх прихвостился к веренице калек, бродяг, юродов. Она всачивалась в некое подобие паланкина из ржавой жести и разноцветной рвани, на которую не польстился б и худой ветошник. Под палаткой трепыхалось пухлявое и аляпистое. Оно-то как бы и всасывало очередных. Скоро Свиное брюхо очутился перед пузычем, седлавшим груду отрепья. Махонькая плешивая башчонка топла в обширном разнотканного кроя кафтане, искапленном всякостями, из которых вовсе уж нелепо боченилась толстая златая нить, навитая на шёлковые шнурчатые утолщения. Лысину кругляша венчала режуще-цветистая, как и всё царство голи, тафья. Вождь бродяжного люда уминал снедь, бесперебойно пополняемую из котомок отчитавшейся голи. Глухо бурчащий Свинобрюх вывалил плоды промысла.
— Вот, Лентяй, бахты отрез. Голубой, с каёмкой золочёной. — Замолк, ждя похвалы.
— Ну, чего пасть-то раззявил? — донеслось взамен.
Свинобрюх очумело уставился. Лентяй невозмутимо чавкал. Стрельнув зрачками понизу, нищий разглядел скрюченное существо, что глазело из сумрака. Это нечто, а вернее некто, столь мало походило на человека, что даже у привычных к его безобразию вызывало оторопь. Плоское лицо точно не имело возраста. Остов столь же точно был лишён сообразия. Карлик: плечи широкие, ручищи несоразмерно длинные, с загребистыми перстами. Ноги короткие, узловатые. Шея творцом не предусмотрена: голова бородою лихо и сразу врастала в грудь. Сверху — сплошной изогнутый затылок. Срез уходящего в лоб затылка напоминает гладкий купол. Под узким костистым лбом — тюленьи глазки, ниже — ковшовая челюсть, по бокам — уши нетопыря. С первогляду — убожество. Но и это была не точка, а лишь многоточие доброй природы, даровавшей уродцу щетину сведённых на переносье дуг-бровей. Сие украшение придавало и без того мрачно-затравленному выраженью задираемых кверху глаз настой непроходимой супи и ярости.
Льдистый кол ужаса и омерзения скользнул в гортань, в пищевод, протаранил требуху и утоп в заныло-сжавшемся паху Свинобрюха. Перед ним был Савва Кожан, долгие годы атаманивший над московским отребьем.
Но где-нибудь с год Савва запропал. По слухам, его словил кто-то из сильных бояр и, изумясь такой диковине, решил потешить царский двор. Для остроты впечатлений на запертого в клетке коротышку спустили волка. Савва просто порвал его пасть. Далее — медведя. Этого недомерок заломал на счёт три. После таких чудес на невидаль клюнул сам Годунов.
С той поры Кожана и след простыл. И вот месяца два как снова объявился он ряженный в приличную поддёвку-архалык. Да так и взял за правило в неделю раз наведываться в бродяжные закраины, выспрашивая всё про всё, что творится-говорится. Самое чудное — за дачу особо полезных вестей Кожан дарил наместников злачных дыр полтиною. Но также говорили, что разносчики слухов, взяв жирный куш, вскоре исчезали. И даже само имя их стремглав истиралось из памяти обуянных страхом обитальцев нищенского «дна» — Выгребной слободки.
В общем, Свинобрюху было с чего перетрухнуть. Впрочем, затаённая боязнь доходяжки пуще задорила острую проницательность Кожана, за версту чуявшего тайны и загадки.
И он только ещё щекотнул бронзовым своим ноготком мосластую конечность нищего, как тот, запинаясь, изложил всю оказию… постигшую утреннего путника… скрестившегося с головорезами Пшибожовского…
Савва внимал без малейших признаков любознайства. Лишь под занавес слабо щёлкнул длинным, как бритва, ногтем большого пальца. Свинобрюх, утяжеливший в ходе доклада штаны, крестясь, заковылял до ветру…
Годунов был доволен. Надежные люди давно уж собрали сведки о местоположении будущих городков, намечены и строительные начальники. Теперь вот, заручась добром Фёдора, Ближний боярин поспешил в дальний теремной покой. Присел отдохнуть на крытую лиственным бархатом лавку. Крупный лоб — в ладони, локоть упёрт в приземистый стол. Зелень, главенствуя в убранстве уютного пятачка, расслабляла, покоила. Посидел, встряхнулся, нащупал маленький колоколец, потряс.
Из потайного чуланика вкатился Савва Кожан. Чудо без сна и устали. Во дворце мало кто знал о его существовании. Телохранитель и истец-шпион, посыльник и прислужник, он в одиночку стоил сорока слуг и осведомителей. Присутствие в царских хоромах уродца не было редкостью. В то время столичные дворы ломились от убогих, юродивых, карлов. Мало, как раз им-то и поручались дела отдельной щекотливости…
Перебирая бумаги, Годунов любопытствовал:
— A что, Савва, давно ль видел Федьку Стручка и Стеньку Бердыша?
— Федьку я, Борь Фёдь, днесь видал. С безделья у целовальника прохлаждается. А Степана Пшибожовский намедни словил, да в подклеть, — чечёткой прозюзюкал карлик.
— Пшибожовский?! Вишь, расшалился, неугомонь, падаль ляшска! Ну так вот что, поди передай ему моё, нет, государево повеление. Чтоб освободить Бердыша. Немедленно! И приведь ко мне и Федьку, и Стеньку.
— Я, чай, боярин, не послушает полячищка-то. Нынче никто его унять не волен. Окромя Шуйских и Сапеги. Да и мне ль, юроду сирому, на люди государские приказы разносить?!
Годунов и сам горячку свою подсёк. Посуровел, кашлянул и, раздавив бесёнка там, внутри, молвил ровно, почти ласково:
— Зарвались гораздо Шуйские и свора прихвостней ихних… Да. Ну, с людьми, сам знаешь, туго, как никогда. Ты вот что: выжди, а как смеркнется, взломай тайком темницу — где она, чай, сыщешь. Да исторопно доставь Стёпку. Осилишь? Поди, не впервой…
Савва просто закатил свирепые глазки. Красноречие такому без нужды.
— Ага. Вот ещё что, Саввушка. Я так думаю, надобно разок проучить злыдня посполитого. Примерно, чтоб неповадно. Небось на месте докумекаешь, как и что?
— Подводил тебя когда? Что мне лихо и беда? — в Кожане нечаянно проснулся «златоуст».
— Ну и славно. С Богом, Саввушка.
Пружинистыми подскоками Кожан выбрался из покоя. Хозяин проводил его долгим взглядом и отрешённо уставился в бумаги. Несмело заглянул Луп-Клешнин, засветил кенкет. Растягивая слова, выдохнул правителю в ухо:
— Щелкалов с тобой, Борис Фёдорович, потолковать рвётся. Днём с Бахтеяром о чем-то шушукались. С того времени в заботе и хмур.
— Никак пронюхал, леший раздери, про городки, — пробормотал Годунов. — Вот уж кого на ноготок не проведёшь, малости не утаишь. Либо господь дьяка Андрея разумом столь светлым наделил, либо его уши сквозь стены прорастают. Жить бы нам душа в душу — лучше для Руси, ей-богу, не пожелать. Ан нет, больно хитёр дьяк. Двум волчарам одного косого не поделить.