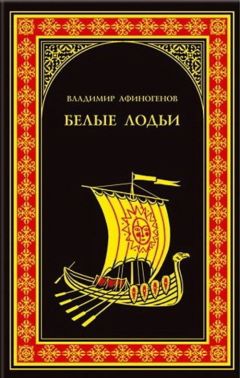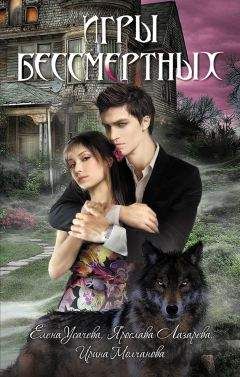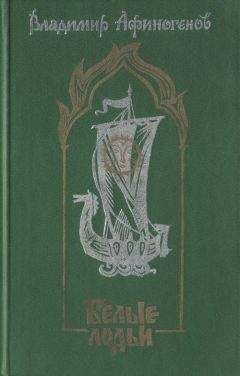Этот поход русских в Крым изображён Филаретом как разбой, как нашествие варваров. Понять архиепископа нетрудно, ведь он — представитель супротивной стороны. Но Бравлин предпринял этот поход не с целью грабежа и наживы, как, впрочем, и другие походы русских на византийцев, а чтобы наказать заносчивых ромеев, от которых русские купцы терпели унижения и насилия и которые подзуживали хазар разорять и грабить владения русов…
Новгородский князь, заключив с Юрием Тарханом союз «мира и любви», покинул Сурож, предоставив этому городу-крепости жить так, как он жил прежде. И снова на его улицах, вымощенных каменными плитами, весело, как будто и не было беды, загалдели, мешая речь, греки и аланы. Это аланы на месте Сурожа в III веке основали своё поселение под названием Сугдея.
Некогда могущественные племена, они населяли весь Северный Кавказ и область между Нижним Днепром и Южным Уралом и владели важным проходом через Главный Кавказский хребет.
— Дарьяльским ущельем, через который, как вода через трубу, просачивались из Азии в Европу разного рода завоеватели. Звалось тогда это ущелье Аланскими воротами.
В IV веке через них на мохнатых низкорослых лошадях проскакали орды диких гуннов, сметая всё на своём пути, словно смерч, и вбирая в себя, как гигантский водоворот, многие племена и народы. Вместе с гуннами, а позже сарматами и готами, аланы приняли участие в так называемом великом переселении народов. Часть из них тогда попала в Южную Галлию, на Пиренейский полуостров и даже в Северную Африку, а те аланы, которые остались на земле своих предков, попали в зависимость от ромеев и хазарского каганата.
Вообще, если наблюдать за нашей землёй из великого космоса, то жизнь народов ранних веков представляется как некие вселенские буревые взвихрения, которые несутся в пространстве и времени с ужасающей силой, закручиваясь, уничтожая себя, возрождаясь вновь, а в минуты затишья оседая кратковременными по сравнению с вечностью цивилизациями. Но проходит какое-то время, и опять они срываются в дикий галоп. И тогда копытами лошадей, боевых слонов и верблюдов снова кромсается человеческое тело…
Гунны, готы, франки, славяне, аланы, свены, бургунды, лангобарды — они двигались вместе, сплетаясь, разлетаясь в стороны, снова сплетаясь, раскалывая друг другу железом или дубиной головы, а когда надо — поддерживая друг друга. Они двигались по земле, словно воды всемирного потопа, способствуя крушению государств, вроде рабовладельческого Рима, и возникновению новых, таких, как могущественные империи — Византийская с Константинополем на берегу пролива Босфора Фракийского и франкская с Ингельгеймом на Рейне или Киевская Русь с Киевом на светлом Днепре.
…Бука согрелась и задремала. И приснилась ей летняя поляна с певчими птицами, улыбающийся Клуд с сеткой для их ловли.
Лучи солнца нежно гладят её по мохнатой шерсти, шерсть ярко лоснится, и глаза Буки довольно щурятся и видят в кустах орешника радужные круги и полосы.
А потом ей вдруг очень захотелось есть, она потянула носом и… проснулась. Снова этот проклятый голод!
Бука вылезла из камней, встряхнулась, широко зевнула, подняла кверху морду. Верхушки деревьев качались от ветра, словно метёлки степного ковыля, будто приветствуя её, оказавшуюся в этих местах.
И вдруг на голову Буки и мохнатую шерсть полетели иголки, — это белка, увидев огромную длинноспинную собаку, перелетела с ветки ближайшей от Буки сосны на дальнюю — от греха подальше! Полосатый бурундук на миг появился из-под дерева и тут же юркнул в нору.
Бука подбежала к норе и стала разрывать её. Но вдруг она услышала треск ломаемых кустов можжевельника и иглицы. Бука оставила своё занятие, прыгнула за толстую сосну, укрылась от чужих, враждебных глаз и замерла.
Ждать ей долго не пришлось. На поляну, которая находилась от этой сосны в нескольких десятков саженей, выскочил красавец-олень. Он резко осадил свой бег, вонзив копыта в землю и срезая ими жухлую прошлогоднюю траву, повёл гордо сидящей головой по сторонам — туда-сюда, но было видно, что животное находилось на последнем издыхании: бока его заполошно раздувались и глаза словно были подёрнуты белым туманом…
Олень находился в растерянности: куда бежать? где скрыться? Кругом окружали его безучастные ко всему деревья.
У Буки появилось желание броситься на животное, пока оно парализовано страхом, и вцепиться зубами в горло: голод не тётка… Но тут ей шибанул в нос резкий запах разогретого бегом волчьего тела и из-за густого орешника стрелой вылетел серый зверь с широколобой, узкомордой головой, слитой воедино с мускулистой шеей, с сильно развитой грудью, и в длинном прыжке сзади упал на спину оленя и вонзил клыки в его шею.
Лес огласился жутким трубным звуком. У оленя подогнулись задние ноги, но он устоял, перебирая передними. Потом, силясь сбросить с себя волка, закрутился на месте, поводя обезумевшими, выкатившимися из орбит глазами. А острые клыки вонзались всё глубже и глубже. Олень было рванулся в кусты можжевельника, но тут навстречу ему бросилась появившаяся вдруг волчица. Он мотнул головой и рогами вспорол ей брюхо, так что кишки, мешаясь с кровью, намотались на них, и отбросил сразу обмякшее тело к корневищу старого дуба. Волчица тут же испустила дух…
Запах крови помутил сознание Буки. Она, не думая больше ни о чём, кинулась под ноги раненого животного… Вдвоём с волком они быстро одолели его. Во время борьбы волку некогда было обращать внимания на собаку и удивляться её появлению. Только тогда, когда животное уже лежало с перегрызенным горлом, он, уперев в окровавленную тушу свои мощные лапы с когтями черно-бурого цвета, будто впервые увидел Буку и, сверкая жёлтыми породистыми глазами, зарычал на неё, оскалив страшную пасть. Бука, хотя ей страшно хотелось есть, покорно отошла в сторону.
Волк отбежал к старому дубу, где с вывернутым брюхом лежала его подруга, облизал красным большим языком её открытые глаза, в которых застыл предсмертный мученический ужас, и снова взглянул на Буку, жавшуюся к кустам орешника.
Обглодав передние ноги оленя, зверь отошёл и мотнул головой в сторону Буки, как бы приглашая и её отведать положенную ей часть добычи.
Бука приблизилась к мёртвому животному и с наслаждением впилась зубами в шею. Волк спокойно наблюдал за собакой. Потом подошёл к Буке и лизнул ей окровавленный кончик носа…
На другой день рано утром местные жители видели, как, мощно выкидывая вперёд ноги, бежали по берегу Индола, почти касаясь телами друг друга, волк и собака, направляясь в противоположную сторону от Понта Эвксинского.
Рано утром к избе Клуда прискакал один из велитов тиуна и тупым концом дротика постучал в дверь:
— Эй, огнищанин Клуд, открывай!
Через некоторое время в окно высунулось улыбающееся лицо хозяина.
— Доброе утро, Фока, — поприветствовал Доброслав. — Подожди, я сейчас.
Ромей Фока мог довольно сносно изъясняться с русами — во время их второго после новгородского князя Бравлина похода на византийский город Амастриду, расположенный восточнее Константинополя, он ещё молодым попал в плен и прожил почти три года на берегах Борисфена. Потом его выкупил тиун и заставил служить.
Доброслав обрадовался, увидев велита Фоку, а не его напарника Аристарха, который по-русски только и мог сказать, карауля дом тиуна: «Отойди! Зарублю!», а делая побор с поселян, говорил: «Мног давай! Давай мног!» Русские смерды и прозвали его Давай Мног.
Клуд вскоре появился на пороге в постолах[15], умытый, со смеющимися голубыми глазами, со светлой бородой. В руках держал каравай хлеба.
— А я смотрю в окно, на коне — ромей, а услышал от него наше слово заветное — огнищанин — и сразу сообразил: значит, приехал ко мне велит Фока… Он знает, что это слово означает для русского поселянина. — И Доброслав протянул ромею каравай.
У Фоки лицо засветилось гордостью — уважил хозяин дома, и не только уважил — похвалил.
— А как же не знать… Вы, язычники, бережёте очаг, свой огонь бережёте. Огниско, по-вашему — огнище… Значит, дома владетель и есть огнищанин… Очага владетель… И помню, как богач Никита, у которого я в плену жил, при повороте солнца на лето в разведённый огонь бросал хлебные зерна и масло лил. А сам водил головой туда-сюда и выпрашивал у пламени обилия в доме и плодородия на полях… А мы — работники — жались за его спиной и ждали, когда он нас за стол посадит. Только раз в году и сажал за стол, а в остатнее время кормил, словно собак: кость бросит — и гложи…
От горького воспоминания у ромея глаза сверкнули злобой, он ударил по рукам Клуда, и каравай хлеба покатился к пустой собачьей будке.
— Вот что, Клуд, велено тебе прибыть к тиуну. С Меотийского озера[16] приехали солевары со своим товаром, повезёшь в Херсонес к протосфарию. Так что меняй свои постолы на кожаные чаги, бери коня, лук, стрелы — и поедем.