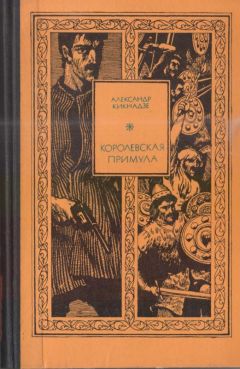— Следствие пока не дало результатов. Меня вызывали несколько раз, требовали дать пояснения относительно командира роты. Я писал то, что знал. Больше хорошее. Но, конечно, и того, что они из дворян были, не скрывал. Да это и не скроешь. Вот такие дела… Была рота, и не стало роты.
Григорий Иванович помолчал, не зная, продолжать или нет, потом собрался с мыслями, вздохнул горько и тяжело:
— Меня как комиссара батальона под суд отдали. Вины не нашли. Но и в комиссарах не оставили. Как-никак за подбор командиров в батальоне отвечал я.
Нина подошла к сыну, обняла его. Сын не плакал. Он вспомнил слова отца о главном мужчине. Григорий Иванович говорил что-то еще, но Отар не слышал его, не понимал.
— Ну, бывайте… Если что-нибудь новое узнаю, зайду или напишу…
— Как же вы теперь, как же вы теперь, родные мои, без Давидушки, сокола ясного моего? — заголосила в дверях Марья Матвеевна. Она оплакивала соседа, к которому, как это бывает с одинокими, добрыми женщинами, привязалась всей душой, хотя знала его и не так долго. Она оплакивала соседа, а вспоминала своего ясного сокола, мужа своего, минера русского флота, погибшего в японскую войну — он напоминал о себе портретом под образами, с которого смотрело на мир спокойное, мужественное, простое лицо с лихо подкрученными усами. От мужа осталась медаль «За верность и отвагу», иногда, играя с Отаром, она давала поносить ее; вот и сейчас, чтобы заглушить его печаль, Марья Матвеевна вернулась к себе, разыскала медаль и принесла ее Отару.
— Вот это тебе от меня. Тут написано «За верность и отвагу», понимаешь, что это значит? Теперь ты только один у матери, упокой, боже, душу раба твоего, Давида!
Марья Матвеевна подошла к Отару и перекрестила его.
До революции Нина преподавала в реальном училище немецкий и французский. Теперь она работала в трудовой школе для бывших беспризорных. Ее учениками были дети, затравленные жизнью, дети, для которых оказались потерянными первые из самых важных в человеческой жизни лет. Азбука, грамматика, таблица умножения — все давалось их ненатруженным обстриженным головкам с нечеловеческим напряжением.
Нина учила их счету, азбуке, географии, рисованию, пению, она пришла в школу сама, движимая желанием помочь этим мальчишкам. Среди них были ласковые и доверчивые, но были и злые, гораздые на непристойную выходку. Однажды верзила Екатеринкин, терроризировавший всю группу, подвесил у входа в класс глобус, который упал ей на голову, едва она открыла дверь. Нина знала, что это сделал Екатеринкин. Тот сидел с самодовольной улыбкой, потом встал, поднял помятый глобус и спокойно поставил его на стол:
— Давай, гражданочка учителка, рассказывай нам про свою еграфию, а вообче, от ее одна головная боль.
Она не выгнала его из класса. Прижала платком легкую ссадину на лбу, постаралась улыбнуться:
— Ты думаешь, это мне нужна география? Она тебе нужна и твоим товарищам. Чтобы знать землю, на которой жить собираешься и которую тебе предназначено переделать. А для ленивых умом, друг ты мой неразумный, это дело не по плечу. Постарайся запомнить. Итак, на чем мы остановились прошлый раз?
— А платочек-то чистенький, с кружевами, во жила буржуазия! — восхищенно пропел Екатеринкин. — Шик-блеск-красота!
Нина до конца урока казалась спокойной. Но после того как пропел звонок, нервы ее не выдержали. Она не пожаловалась, зашла в уборную, расплакалась и опоздала на следующий урок, и казался он ей долгим, как ни один другой урок в ее жизни.
Когда-то Нина и Давид мечтали стать педагогами. Теперь она не знала, насколько ее хватит. Старалась справиться с группой своими силами, но оказалось, что для этого нужно не только много сил, но и слишком много специальных знаний, которых у нее не было. В школе было одно-единственное пособие, переведенное в 1911 году с немецкого. Да и авторы его не предполагали, что молодой уставшей женщине придется ломать голову над тем, как поступить с трудновоспитуемым Земцовым, который во время большой перемены аккуратно склеил страницы единственной на всю группу книги «Родное слово», или с трудновоспитуемым Дыбовым, который принес в школу настоящий наган с холостым патроном и, когда Нина вызвала его к доске, приставил наган к виску, выстрелил и сделал вид, что упал замертво, У Нины от ужаса помутилось в глазах.
Раньше таким говорили: «Приведите родителей».
У Земцова, Дыбова и у других родителей не было. Раньше таких исключали из школы. Из этой школы не имели права исключить никого. Она была обязана превратить в человека самого отпетого, потерянного, никчемного подзаборника.
Когда-то Нина мечтала стать педагогом.
Теперь она чувствовала, что силы и выдержка ее на исходе. Она терзалась школьными неурядицами, принимая все слишком близко к сердцу. Но более всего терзалась тем, что на протяжении двух с лишним лет не смогла ничего узнать об обстоятельствах гибели мужа.
Однажды к ним домой пришел какой-то Коростылев, грязный обросший человек с маленькими трясущимися руками и сказал, что знал товарища Давида Девдариани, что он погиб в бою, ведя свою роту на вражескую цепь. Он говорил, что сам перенес контузию и потому больше ничего не помнит, помнит только, что Давид погиб мгновенно, должно быть, пуля под сердце попала. Нина была благодарна ему за одну эту весть и, разыскав адрес Григория Ивановича, попросила этого несчастного человека пойти с ней к бывшему комиссару батальона. Коростылев задумался, спросил, не осталось ли чего-нибудь из вещей Давида, и смущенно показал на свой костюм. Нина отдала незнакомцу пиджак и две сорочки мужа и обещала к следующему разу найти еще что-нибудь. Коростылев сказал, что зайдет через день, Нина отпросилась пораньше с работы и вместе с Отаром ждала Коростылева, Он не пришел. Не пришел и на следующий день. А потом оказалось, что это был какой-то морфинист. Он ходил по дворам, заводил беседы со старухами, узнавал, у кого из соседей кто погиб, поднимался в квартиры, сочинял нехитрые истории, выпрашивал вещи погибших и тотчас спускал их.
Три раза 7 ноября Григорий Иванович поздравлял с праздником. А других вестей не подавал.
Отару шел девятый год, когда умерла от тифа Марья Матвеевна. Нина, рано лишившаяся матери, оплакивала ее как родную. Дом без соседки осиротел, не с кем было оставаться Отару после школы, некому было приготовить ему обед и накормить. Отец Нины жил в Харькове с новой женой, у нее было трое своих детей, и она постаралась рассорить его с собственной дочерью. Мать и сын Девдариани, помня слова Давида, решили ехать в Тифлис.
У Нины были маленькие золотые часики с тоненьким браслетом, память о матери. От Марьи Матвеевны остался золотой перстень с дорогим камнем, привезенный мужем из плавания в Мексику. Марья Матвеевна сказала перед смертью: «Будет трудно, поступи с ним по-своему», — и показала глазами на перстень.
Обе драгоценности Нина снесла в Столешников переулок к ювелиру-нэпману, который вернулся в свой магазин и запел старую песню:
— Только я вас прошу, вы никому не говорите, что я дал вам за такую вещь столько денег. А то все подумают, что я сошел с ума. Такие деньги за такую вещь… — в перерывах ювелир ругал что было сил новую власть, которая с такими налогами на честных людей долго не продержится.
Еще был небольшой ковер, подарок Давида. Давид пришел к Нине, порвав с отцом; он принес ковер, купленный едва ли не на последние студенческие деньги, зубную щетку, пепельницу с серебряной рыбкой на оси, двухтомник Жюля Верна и кровь своих предков… Смышленый, глазастый и легковозбудимый, Отар был первой веткой с более светлыми листьями, чем другие, на древнем генеалогическом древе дворян Девдариани.
За ковром пришла маленькая женщина в цветастом платке. Она сама назначила цену, уже уходя увидела серебряную пепельницу с рыбкой и заметила, что не постояла бы перед ценой, ибо вещица приглянулась ей. Нина сказала: «Не продается», — покупательница еще раз обвела комнату профессиональным взглядом, но больше ничего не нашла.
Ехали в Тифлис через Баку с долгими остановками на разъездах. Нина, боясь тифа, купила ужасно дорогие билеты в купе. Но в купе, рассчитанном на четверых, ехали девять пассажиров, потом сошли четверо и вошли трое, потом сошли двое и вошли пятеро.
Ехали в Тифлис через Баку с долгими остановками на разъездах. Нина, боясь тифа, купила ужасно дорогие билеты в купе. Но в купе, рассчитанном на четверых, ехали девять пассажиров.
Когда подъехали к Ростову, в купе вошло трое невысоких смуглых граждан в папахах, похожих на большие белые хризантемы. Они возвращались с политкурсов, разговаривали быстро и громко, помогая языку жестами, пели протяжные песни и угощали соседей черствыми, но очень вкусными пирожками.
— Тифлис — хароши город, но пасматри хоть раз на Баку, никуда не уедешь. Такой море где есть? Такой рыба где есть? Такой виноград, шааны называеса, где есть? Адин раз пасматри. Грамотни челавек знаешь как нам нужен… — убеждал выпускник политкурсов Нину, мечтательно оглядывая ее. Она не знала куда себя деть.