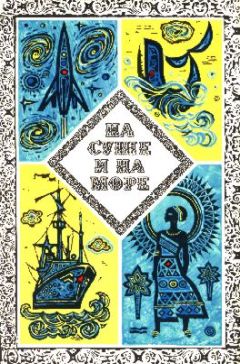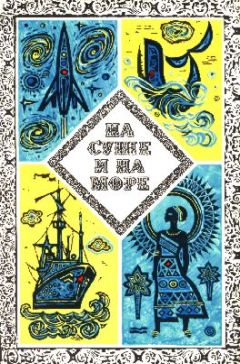В роковом подземелье стрелка тошнило. Постоянно испытывал головокружение, спазмы в груди. Однажды взволнованный очередной смертельной вахтой, подошёл к разверстой ямине, осветил карманным фонариком глубь, мелеющую с каждым карательным днём. Нутро дохнуло застойным запахом тлена. Воробьёв вздрогнул, увидев торчащий из песка внушительный кулак. Значит чья-то пуля оказалась дурой, сразила не наповал приговорённого горемыку. Агония жизни-смерти выплеснула остатние силы для последнего проклятия комендатуре, следственной тюрьме НКВД, усатому неродному отцу.
Прислонённая к песчаному срезу штыковая лопата натолкнула на единственно верную мысль. Над посинелой уликой вскоре появился земляной холмик. Прислушался: из преисподней стон не доносился. Яма была доверху набита тягучей тишиной. Только настырный жук под корой недавно уложенной плахи доказывал древесине крепость упорных резцов.
Широкие сосновые плахи приглушали шаги. Выбредая из жуткой штольни, боялся задеть плечами крепёжные стойки. Сверху давил на них бревенчатый накатник, тянулись уверенной горизонталью такие же дюжие плахи со следами продольной пилы.
Спина особенно чувствовала текучий холод подземелья. Шагал, пережигая в сердце недавно увиденное на дне народной могилы. Правдоподобный кулак вырос до размера увесистого молота. Вспомнилась увиденная в учебнике истории беспощадная палица.
Разгневанная штуковина, вобравшая последнюю силу ненависти, висела над головой литым грузом возмездия.
Резким взмахом руки попытался отсечь кулачище: он не собирался покидать устойчивое грозное положение.
Перемигивались тусклые электрические лампочки, рассеивая по штольне обморочный свет. Зажмурился с отчаянной мускульной силой воспалённых бессонницей глаз. Дикая пляска искр в пространстве надлобья осветила кромешную синь.
Прозрев, увидел всё тот же почти квадратный окуляр, нацеленный на близкий выход из ямы смертников.
Мстительный синюшный кулак не смещался с точки зависания. Больной Натан наотмашь долбанул его плоским карманным фонариком: удар в неплоть потащил за собой тяжёлую руку.
Прилипчивое видение ощущалось взъерошенными волосами, стянутой кожей затылка.
— Дай выдерну седую волосинку.
Резкой отмашкой руки Воробьёв стукнул по холодным пальцам, собранным в щепоть.
Краснолицый сосед-коечник собрался отвесить обидчику подзатыльник. Жалкий вид незрелого чикиста не дал излиться гневу.
— Воробей, не вру. Глянь в зеркало.
— Не липни!
— Ну и видок у тебя, Натанушка. Утопленника со дня омута вытаскивал?
Одновзводник с клювастым носом выводил парня из душевного равновесия. Многие стрелки догадывались — Горбонос сексотит, поставляет офицерской верхушке подробные сведения из казарменной житухи.
Стукача не раз били. Некоторые заискивали с расчётом: авось, не выдаст, не шепнёт злопамятному коменданту о взводных грешках. В присутствии доносчика приходилось фильтровать слова через сетёнки мозговых извилин.
Боялись толковать на острые политические темы, травить анекдоты, давать даже косвенные оценки происходящему на песчаной глубине.
Когда в одной из прожорливых печек Ярзоны сжигали выбракованные библиотечные книги, глазастый Натан тайком спрятал за голенище сапога книжечку стихов Есенина. Мягкая обложка измахрилась, от бледного текста стихотворений рябило в глазах. Портрет поэта с трубкой во рту был выполнен на серой бумаге, по которой, как занозы, разбежались не переваренные в бумагоделательном котле крошечные щепочки. Они разбежались по страницам болезненными прожилками.
Долго осторожничал Воробьёв, тайком перечитывая, заучивая трогательные стихи запрещённого рязанца. Недоумевал: почему душеспасительная лирика чародея на кого-то оказывает тлетворное влияние. Стоило ли ограждать тот же расстрельный взвод Обской Ярзоны от возвышенных образов поэта, если на глазах меткачей подкашивались жизни и судьбы, не ограждённые спешными судами троек. Где находилась грань, разделяющая стихи и свинец?
Пасмурным вечером Горбонос прихватил соседа за чтением любимого Серёги. Углубился в чтение, забыв про осторожность. Постигал философско-магический зачин стихотворения:
Душа грустит о небесах,
Она не здешних нив жилица…
Что-то роковое, знаковое светилось в неразгаданном запеве. Погрузился в золотой водоём слов. Не существовало скученного казарменного прозябания, въедливого стукача.
— Воробей, да ты высоко паришь… Дашь почитать запрещенца?
На лице, шее Натана не успела выступить сыпь страха. Округлил растерянные глаза, упёрся сверлящим взглядом в непрошибаемую фигуру.
— Устав превосходно знаю. В нём ничего не сказано о запрете на лирику славного русского поэта.
Спокойный, невозмутимый ответ озадачил Горбоноса, получившего в руки крупный козырь.
Разнокалиберные красноватые гнойники расселились на щеках, подбородке соседа. Натан старался не смотреть на лицо занудистого стрелка со странной фамилией Перебийнос.
Продолжил чтение стихотворения. Теперь слова мерцали в рассеянном свете текста, не укладывались в голове логичным порядком.
«Гад! Нарушил обряд постижения сути…»
— Спиртику хочешь? — предложил стукач блеющим голоском.
— Обойдусь.
— Есенин бы не отказался…
— Поздно ему предлагать… не дозовёшься… сон беспробудный…
— Доживи хулиганистый стихоплёт до наших жарких деньков — не избежал бы карательной пули. Таких чистить надо свинцовым скребком.
За оскорбление стихоплёт Воробьёв хотел звездануть болтуна в оттопыренное ухо. Еле-еле остудил бунтующую волю. Ворочая непослушным от гнева языком, процедил:
— У тебя сапоги грязные. Не гоже передовому служаке в таких ходить.
3Потемневшая от времени засольня вросла в песчаноглинистый грунт свайными столбами. Кержаки-плотники рукомесло знали и ценили. Прежде чем вкапывать сосновые кряжистые стояки щедро смолили, ограждая от речной и небесной сыри. Пол засольного цеха серебрился от рыбьей чешуи, от раздавленных пузырей. Вместительные бочки не пропускали рассол между плотно подогнанных клёпок. Бондари-умельцы не допускали огрехов. Их весело поющие фуганки вели нужный скос. Стянутые воедино тугими обручами кедровые дощечки притискивались плотненько, надежно.
Пухлощёкая завлекуха Прасковья Саиспаева считалась в засольне лучшей обработчицей рыбы. Охрипшие от паров соли товарки редко величали её полным коренным именем, раскусили наполовину. «Праска, тащи соль!», «Взвой песню, Праска!», «Язи в бочках грустят — возвесели!».
Добродушная Прасковья не обижалась на окрики подруг даже тогда, когда они сокращали её растянутое имя до Пра. Нравится откусывать от вкусного пирога по кусочку — на здоровье. В ней кипела русско-остяцкая кровь, пузырилась весёлость. Её премировывали платками, гребёнками, марлевым пологом, иглицей для вязания сетей. Получит в трудовую награду пятёрочку смятую — не обойдет сторонкой «завинную» лавку «Центроспирта». Соберёт подружек в старой хибаре — песни шире Оби разливаются.
— Раз живём, ведьмы мои хорошие. Чего вялыми карасями по юности плыть… Айда на танцы. Сегодня гармонист Тимур ради меня припрётся.
— Праска, да мы же весь клуб рыбьим жиром обвоняем.
— Пусть нюхают трудовой душок. Сами не одним обским духом питаются. Я на вас флакон одеколона вылью.
— А сама?
— Горжусь запахом засольни… Кому влюбиться — не будет тело шмонать. Есть чутьё — нюхом меховой клад найдёт.
Разбитной Прасковье интересно наблюдать за растерянными засольщицами. Пёрышки чистить принялись. Разгорячённые вином в клуб засобирались. Поправляли волосы. Одёргивали платья, блузки. Заглядывали в тусклое надтреснутое зеркало над оловянным умывальником.
— Давай декалон, рыбий дух перешибём.
Улыбистой девахе не трудно отговорить товарок.
— Ведьмы, отбой! Выворачивайте карманы. С миру по рублику — невинной лавке доход.
Удивлённые подруги таращат глаза, не верят подруге.
Не наскребли капиталу на очередную бутылочку.
Пляшут хитринки в карих раскосых глазах Праски. На ладони пузатенький флакон с зеленоватой огненной жидкостью.
— Знаете, почему одеколон тройным называется?
— Не-а.
— Его запрещается единолично пить. На троих, пятерых — не возбраняется… И то. Чего шкуру ублажать, если кишки наодеколонить можно.
Ведьмарки давятся смехом, не принимают на веру гладенькие словечки завлекухи. Слышали: догадливые нарымцы не брезгуют ароматными градусами. «Тройник», «шипрец» у них на почётном горловом счету.
— Пра, неуж внутрь одеколонилась?
— Глупый вопросец. Разведи с водой до молочного цвета, опусти чесночину и через соломину высоси напиточек. Для заедки вяленый чебак сгодится.