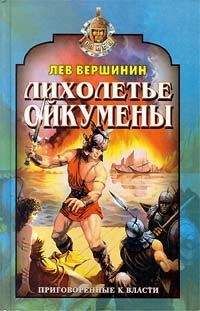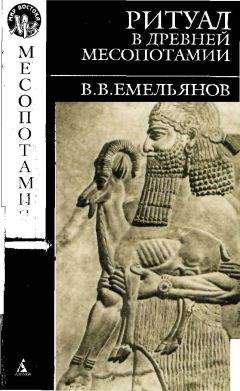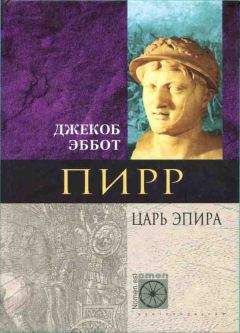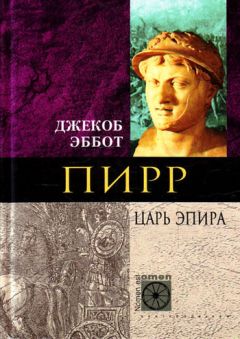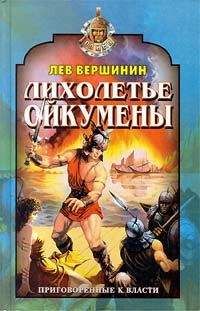Не сможет?!
Неужели он – Бог! Бог!! Бог!!! – умрет?
Уйдет туда, во мглу, к шелестящим теням?!
Не-е-е-ет!
Он встанет. И воздаст всем им в полной мере: и подлым стратегам, так умело затаившим измену в своих черных сердцах, и этой гнусной предательнице-азиатке, и всем, всем, сколько есть их вокруг, а потом доберется и до Олимпа, доберется вопреки всему, как вопреки всему добрался от Македонии до Инда, и взыщет за неоказанную помощь с ДиосаЗевса, жалкого подобия недостойного своего великого сына…
Он поднимется на ноги.
Ибо истина открылась ему, и эта истина – наилучшее из лекарств: он отравлен предательством окружающих, тех, кому доверял.
Теперь он будет верить только себе.
И немного, разве что совсем немного – Пердикке.
Потому что Пердикка не просто друг детства. Нет, этого мало! Ведь оказался же мерзким перевертышем Птолемей. Но Пердикка многократно доказал преданность, изыскивая измену и собственноручно пытая заговорщиков и маловеров; многие из них пытались запираться, кричали о своей невиновности, но раскаленная медь, высокая дыба и суровое правдолюбие Пердикки заставляли их, валяясь в лужах собственной крови и мочи, признаваться в задуманных изменах.
Да, Пердикке можно доверять…
А еще – Эвмену.
Почему? Ответ на этот вопрос известен ему, он крутится неподалеку, он почти уже на языке, но… никак не нащупать, не ухватить. И не надо. Главное, что Эвмен достоин доверия, Бог убежден в этом, а боги не ошибаются…
Но прежде всего – матери.
Умирающий Бог улыбнулся, и врач, засеменив к двери, тут же сообщил об этом Пердикке, все так же стоящему на страже, а тот, немного помедлив, – стратегам, в напряженном ожидании приподнявшимся с низких сидений, и радостная суета в переходах дворца всколыхнулась приливной волной, но лекарям, воспаленным надеждой, было невдомек, что улыбка на иссушенном лице вовсе не указывает на перелом…
Просто Бог разговаривал с матерью…
Ей, Царице Цариц Олимпиаде, он верил с первых дней земного существования, верил слепо и безоговорочно, все прощая и не возражая ни словом! Верил нежности ее рук и строгости голоса, верил, как никому другому, просто потому, что она – единственный человек на всей огромной земле, готовый броситься в пропасть во имя того, чтобы ему было хорошо; прежде они никогда не расставались, и даже уйдя в поход, он писал ей коротенькие письма каждую неделю, собственноручно, даже когда стал Царем Царей Востока, а она отвечала ему длинными, поучающими; он терпеть не мог поучений, но ее указания старался исполнять, если они не противоречили его божественности; когда он был еще мал, а потом – юн, они с мамой, запершись ото всех в ненавидящем их дворце, вдвоем ненавидели Филиппа, загубившего матушкину молодость, и гордились истинным отцом Александра, и мечтали о грядущей мести всем завистникам… о, как сладка была эта месть, когда время пришло!.. А нынче именно мамочка пришла туда, в долину оскалившихся теней, взяла за руку, словно маленького, и увела из мрака в свет, в эту вот знакомую и незнакомую опочивальню, и злобные тени шарахнулись от немолодой зеленоглазой женщины в темном вдовьем покрывале, властно крикнувшей в их слепые морды: «Не троньте моего сына!»…
Здесь, на свету, не было теней.
Но не было и ее.
Она осталась там, в Македонии, и все двенадцать лет разлуки живет мыслью о встрече; ей плохо там, одной, без сына, ее обижают подлые друзья Филиппа, всегда ненавидящие Царицу Цариц за то, что она, возлюбленная Зевса, не скрывала своего презрения к ним. Недавно, из последнего письма, сын узнал, что подлец Антипатр, оставленный править жалкими македонскими землями, осмелился прогнать ее из страны, запретив ей – царице! – возвращаться, пока не прибудет сын! Он, ближайший друг и побратим Филиппа, главный ненавистник матери, посмел!.. Но ничего, родная, твой сын заставит его уплатить сполна, кровью и воем, за каждую твою слезинку!..
Только бы встать!
Вста-а-а-а-ааааааа…
Сиреневые тени сгустились, затмевая огни светильников.
Короткая мучительная судорога передернула тело, на миг отпустила, вновь пришла, выворачивая мышцы; глаза больного выкатились из орбит, быстро наливаясь кровью, мутная пена вскипела на искрившихся губах, дыхание сделалось лающим, и из-под только что перестеленных покрывал вновь потянуло нестерпимо-пронзительной вонью…
У врачей, бросившихся к ложу, дрожали руки, морозная бледность превратила их лица в трагические маски, но служба есть служба, и спустя несколько мгновений, когда все стало ясно, один из целителей, когда-то седовласый и осанисто-важный, а сейчас на глазах превратившийся в согбенного старца, нашел в себе силы добраться до двери и тихо вымолвить в ухо хранителю печати:
– Агония!
Это был приговор, не подлежащий пересмотру, приговор Царю Царей и всем им, эскулапам, не сумевшим спасти его; врач, произнеся страшное слово, был готов к немедленной смерти, но, к удивлению своему, не умер. Его всего-навсего отшвырнули от двери и едва не растоптали. Тихий шепот прозвучал в настороженной тишине громовым раскатом, и сидящие в ожидании вскочили одновременно. Они ринулись к двери, словно к воротам осажденного города, и даже Пердикка со своей махайрой не сумел бы их остановить; хранитель печати был бы просто раздавлен и смят, не сообрази он вовремя возглавить толпу, рвущуюся к царскому ложу…
Забившись в угол, врач еще жил, безмерно удивленный этим фактом; однако потрясение скоро пройдет, ему, конечно, отрубят голову – в саду, на рассвете, милосердно избавив от пыток, а вслед за ним обезглавят и остальных целителей-неудачников, не пощадив ни единого, разве что снизойдя к просьбам некоторых о замене топора удавкой. Но это будет спустя несколько часов, а пока что стратегам не до врачей; несчастные, пожалуй, могли бы даже уйти сейчас из дворца, сгинуть в лабиринте вавилонских улиц, но к чему? – завтра же их хватятся, станут искать, возьмут в заложники семьи… Не дворец, а вся Ойкумена стала ловушкой, и беднягам остается только радоваться нежданно продлившейся жизни и готовиться достойно встретить неизбежное…
Звеня бронзой доспехов, тяжко дыша и толкаясь локтями, стратеги нависли над ложем, исступленно вслушиваясь в тишину, иссекаемую хриплым криком Пердикки:
– Божественный, очнись! Очнись! Скажи, кому ты завещаешь все? Кому? Кому?!
Казалось, это продолжалось целые века.
Наконец ресницы, поредевшие за эти дни, а совсем еще недавно – длинные и пушистые, слегка дрогнули.
Слабое подобие шороха слетело с уст.
– Ма-ма… – пролепетал умирающий.
Она все-таки пришла! Она преодолела пространство, чтобы снова спасти его от этих жутких, колеблющихся, не дающих дышать теней, сумевших доползти из подземного мрака даже сюда, в мир живых, в его опочивальню…
Но почему у нее – борода?!
Эта мысль, последняя в жизни, мелькнула и сгинула, и напрасен был клекот Пердикки, монотонно повторяющего свое «Кому? Кому?! Кому?!!», потому что мертвым неинтересны дела временно живых, а вытянувшийся комок отхрипевшей, отмычавшей последний стон, отмучившейся плоти был уже окончательно и безнадежно мертв.
Он, пока жил, не считал себя человеком.
Теперь он им не был.
Он наконец-то стал Богом…
Дельта Нила. Пелузий. Весна года 455 от начала Игр в Олимпии
Жемчужина. Немного ароматной, легко горящей смолы. Капля вина. Клочок драгоценной парчи. Щепотка заморских пряностей. Треть флакона благовонных притираний.
Пожалуй, довольно.
Теперь перемешать все это, скатать в липкий, не имеющий определенного цвета комок. Уложить на мрамор походного алтаря, строго посередине, меж двух тускло рдеющих лампад.
И поджечь.
Огонек охватил было бесформенное нечто, лежащее на пятнистой мраморной доске, встрепенулся, словно пребывая в сомнении, и умер, оставив по себе лишь тонкие струи удушливого, режущего глаза дыма.
Жертва не принята.
Мало?
Воровато прищурившись, Пердикка, Верховный Правитель невиданной державы, простершейся от лесистых македонских гор до спокойно текущего мутного Инда, вытащил из ножен короткий кинжал, не раздумывая, полоснул себя по руке и помазал губы царя собственной кровью.
Старый варварский обычай, почти забытый даже в Македонии, осмеянный и презираемый в последние десятилетия.
Но – действенный.
Ни одно божество не устоит перед запахом и вкусом человеческой крови, принесенной в жертву добровольно и безо всякого принуждения.
Это даже приятнее им, чем дым, восходящий в небо от бесчисленных бычьих, бараньих и лошадиных туш, сжигаемых на торжественных гекатомбах. Тем более что ни сегодня, ни завтра, ни через неделю гекатомбу не устроить. Нет ни быков, ни овец, а те, что есть, необходимы для пропитания войска…