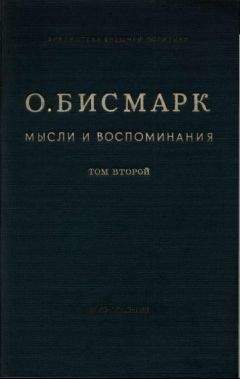Перед этим на пороге Горчакова предстал Тьер.
– Только одна Россия может спасти Францию, – заплакал он.
– Францию спасет сама… Франция, – любезно отвечал канцлер послу. – Но рука Парижа, протянутая к Петербургу для пожатья, не повиснет в воздухе… Не забывайте – вы побывали у нас в Крыму! Необходимо время, чтобы следующие поколения русских людей воспринимали этот факт как исторический казус – не больше.
Бисмарк отнял у французов Эльзас и Лотарингию; Бисмарк наложил на Францию шесть миллиардов контрибуций. «Бархатный» канцлер из Петербурга показал свои когти «железному» канцлеру в Берлине, и контрибуции были снижены до пяти миллиардов… Горчаков теперь говорил другим тоном: «Нам, русским, НУЖНА СИЛЬНАЯ ФРАНЦИЯ…» В общественном мнении России вдруг что-то надломилось: все вокруг кричали о беде Франции и громко осуждали разбой Германии. А потому, когда в 1873 году, сверкая железными касками и шишаками, явились в Петербург, будто на смотрины, Вильгельм I, Бисмарк и Мольтке, русская публика встретила их холодным, презрительным равнодушием… Бисмарк наедине повидался с Горчаковым.
– Вы получили в соседи сильную Германскую империю, – сказал он. – Такую сильную, что с ней надо считаться.
– Теперь нам желательно иметь сильную Францию, с силой которой вам, сильным немцам, предстоит сильно считаться…
Бисмарк расхохотался! Он надеялся, что миллиарды контрибуций закабалят Париж, французы еще долго будут шататься от голода, покорно выслушивая фельдфебельские рыки из Берлина. Но случилось невероятное: Франция быстро расплатилась с Берлином – и это было ударом по Бисмарку, ударом по всем планам Германии. Народ Франции доказал свою жизнестойкость. Даже великий Пастер, на время забыв о микробиологии, взялся за выделку пива, чтобы на рынках Европы французское пиво победило отличное немецкое; в своем патенте Пастер писал: «Это будет пиво национального реванша…» Он своего достиг – французское пиво стало лучше баварского.
– Нам больше ничего не остается, – рассуждал Бисмарк, – как снова наброситься на Францию и сожрать ее так, чтобы хруст костей был услышан даже в пустынях Патагонии.
Бестрепетный Мольтке мудрил над картами:
– А вот и Бельгия – отличный коридор к Парижу…
Уже выковался первый вариант будущего «плана Шлиффена»[1].
Европа видела дурные сны. Франции грозила катастрофа.
Горчаков стоял возле самых истоков кризиса.
– Очевидно, вся моя жизнь, – говорил он, – являлась лишь прелюдией к той битве, в которую я сейчас вступаю…
Немецкие газеты кричали: Германия не смирится с тем, что ее соседка богатеет и вооружается. Русский посол в Берлине депешировал Горчакову: германские пушки на Рейне уже заряжены… Была ранняя весна 1875 года! Утром лакеи одевали старого канцлера. Щелкнула челюсть, поставленная на место. Его бинтовали в корсет, и грудь выпрямилась. После мытья огуречным рассолом лицо разрумянилось. Был подан фрак. Муар андреевской ленты опоясал его; звезды сверкали бриллиантами; на шее канцлера болтался драгоценный «телец» ордена Золотого Руна… Что еще?
Начиналась битва железных канцлеров.
Карета эффектно остановилась возле французского посольства. Завтра об этой эскападе будут писать все газеты мира.
Горчаков взмахнул шляпой перед послом Франции.
– Дорогой Лефло, – сказал он ему, – я всегда был поклонником вечно юной красавицы Франции. Будьте же уверены (и заверьте в том Париж!), что отныне все усилия России будут направлены к тому, чтобы сдержать тевтонское нетерпение Берлина…
В мае Париж и Брюссель просили Петербург о поддержке в случае нападения Германии; канцлер переломил в своем повелителе родственные настроения, царь открыто выражал приязнь к Франции.
– Ваше величество, – внушал ему Горчаков, – вы отправляетесь пить эмские воды. Я думаю, что по дороге в Эмс оправдана короткая остановка в Берлине, чтобы образумить тамошних драчунов…
Александр II согласился на остановку. Вдоль перрона берлинского вокзала свежий ветер раздувал белые пелерины германских генералов; мордатый Бисмарк, в меру пьян, небрежно прикладывал два пальца к сверкающей каске. Горчаков взирал на суету встречающих через оконное стекло царского вагона…
Рейхсканцлер шепнул Мольтке – с откровенностью:
– Сейчас Горчаков выпрется из вагона, как надушенная примадонна, и станет действовать мне на нервы старомодным белым галстуком и претензией на версальское остроумие… Ужасный старик!
Вдоль идеально подметенного перрона шли два властелина Европы – кайзер Вильгельм I и император Александр II; Горчаков наблюдал, как резко жестикулировал царь и как в недоумении разводил руками германский кайзер. Горчаков снял цилиндр и, взмахнув им, приветствовал пелерины и колеты бравой потсдамской гвардии, кричавшей ему то немецкое «хох», то русское «ура».
Переговоры начались. В планах Бисмарка было ввести немецкую армию во Францию и четырнадцать лет держать страну под прессом оккупации, высасывая из нее последние соки контрибуциями. Но в беседе с Горчаковым канцлер всю вину за «боевую тревогу» сваливал на газеты. Речь его, как всегда, была напористой и грубой:
– При всем моем желании, согласитесь, я не могу быть и редактором. Если нашелся такой газетный идиот, который, воя на луну, тоскует по Парижу, так я не запрещаю – бери паспорт и поезжай в Париж! Наконец, еврей Ротшильд… вы бы знали, какая это свинья! Ради биржевых спекуляций он готов устроить скандал на всю Европу, а виноват… я! – Разлаяв газетчиков и банкиров всего мира, Бисмарк «дал жару» своим генералам: – Я не генерал, слава Богу, а значит, не такой осел, как мои генералы. Что Мольтке? Это еще молокосос. Генералы подняли суматоху, словно у них горит ярмарка, но я-то остаюсь спокоен и тверд… Зачем нам, немцам, превентивная война? Зачем мне, рейхсканцлеру, лишние лавры в суповой тарелке? Кроме сосисок и выпивки, мне ничего не надо…
Горчаков костяшками пальцев сухо постукивал по столу:
– Я вам уже говорил и заявляю снова: России нужна сильная Франция, и отныне любой ваш конфликт с Парижем сразу же отзовется на берегах Невы. Молодой человек, – сказал князь (Бисмарку, молодому человеку, исполнилось как раз 60 лет), – не забывайте, что войны возникают от тихонько сказанных слов, которые произносят дипломаты, пороху никогда не нюхавшие.
– Ну, я-то понюхал… При Садовой, при Седане!
– Тем более, – заключил Горчаков, – будьте осторожны…
«Бархатный» канцлер задержался на пороге.
– Кстати, – заметил он вскользь, – я перестал осуждать французов, желающих возвращения Эльзаса и Лотарингии… Говорят, из недр этих провинций вы, немцы, сейчас выгребаете немало сырья для крупповских домен в Эссене… Неужели это правда?
Дверь закрылась. Бисмарк треснул кулаком по столу:
– Ненавижу… этот белый старомодный галстук! Насилие получило отпор, и Бисмарк (великий реалист XIX века) понял, что Россия всегда будет камнем преткновения на путях германской агрессии. Утром кайзер заметил канцлеру:
– У вас нездоровый вид. Вы плохо спали?
– Прекрасно! Я всю ночь дышал лютой ненавистью…
Гнев и ненависть были его двигателями: эти чувства были необходимы канцлеру, как другим нужны любовь и дружба. Горчаков разослал по русским посольствам шифровку: сохранение мира обеспечено. Газеты исказили ее, выявив неизбежную суть визита Горчакова в Берлин. «Теперь, – подчеркивали они, – мир обеспечен!» Бисмарк и германская военщина трубили отбой по всей линии фронта. Милитаризм получил поражение от дипломатии. Горчаков, по сути дела, отсрочил первую мировую войну, которая началась в 1914 году, а могла начаться и в 1875 году…
Неофашисты на Западе ныне проводят мысль, что Бисмарк совершил непростительную ошибку, спасовав тогда перед российским канцлером. Начни он тогда бойню с Францией и Россией – и Германию миновали бы поражения 1919 и 1945 годов, а «цели, которые ставил перед собой Гитлер, были бы достигнуты давно…». «Немцы, – пишут фашистские историки, – были слишком порядочными». Но в том-то и дело, что князь Горчаков победил, а последствия победы сказались в будущем…
Пушкин в молодости писал Горчакову:
Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к закату своему…
Кому ж из нас под старость День Лицея
Торжествовать придется одному?
Горчаков торжествовал в одиночестве глубокой старости.
Последние годы он провел в Ницце, где снимал четыре крохотные комнатки, а обедать ему носили из траттории, и старик мудро терпел перегорелый лук, нищету итальянского супа, прогорклое масло. При нем была сиделка, которая под руку водила его, как младенца, на прогулки. Ходили слухи, будто светлейший князь Александр Михайлович Горчаков оставил после себя удивительные мемуары.
– Это вздор! – говорил он заезжим в Ниццу русским людям. – Всю жизнь я терпеть не мог процесса писания и лишь наговаривал секретарям, а уж они записывали… ноты, циркуляры, трактаты!