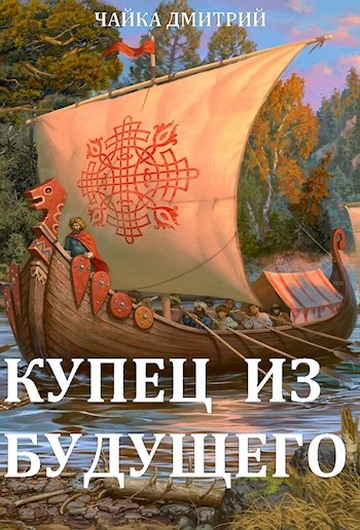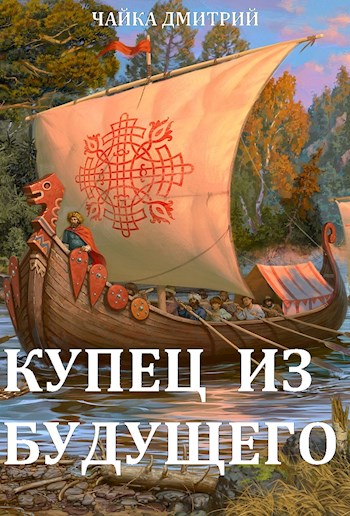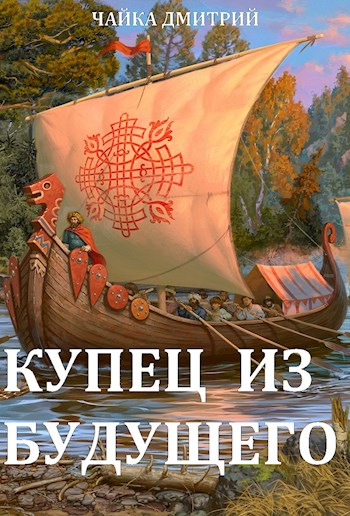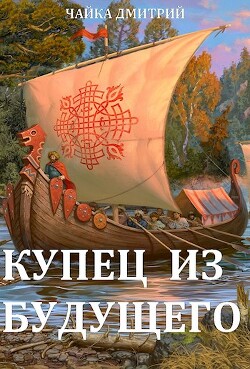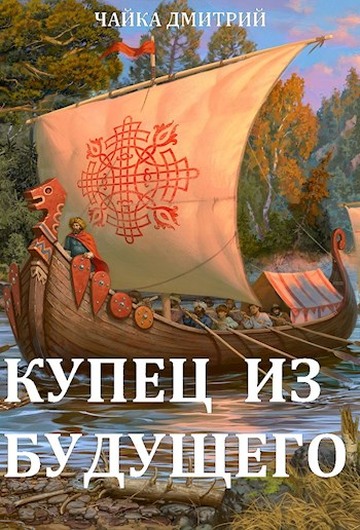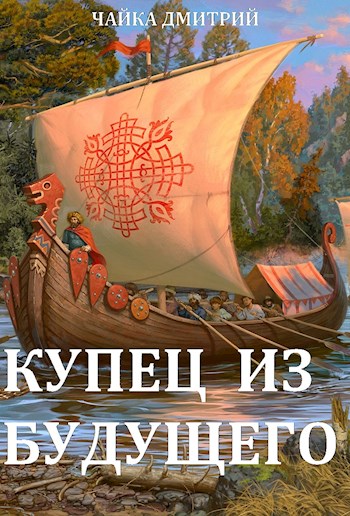сжали тонкие запястья до синевы.
— Мамка! — заплакал мальчишка, понимая, что это уже ничему не поможет.
Ни мать, ни брата Ратко больше никогда не видел. Зато увидел трех здоровых мужиков с мертвыми глазами, одетых в кожаные фартуки. На затылке Ратко снова, как тогда встали дыбом волосы, и он попытался сбежать, прошмыгнув между ними.
— Что ж, этот самый прыткий, первым пойдет, — сказал бородатый мужик. Впрочем, Ратко не понял его слов. — Ставлю кувшин вина, что он выживет.
Его крепко взяли за руки и притащили в полутемную комнату, где висел густой, впитавшийся в стены запах крови. Ратко закричал от страха, но его повалили на стол и крепко прижали. В углу тлела жаровня, он видел ее и железный прут, что раскалился в том огне докрасна. Ему грубо раздвинули ноги и перехватили веревкой яички. Он заорал от нахлынувшей боли, а потом заорал еще сильнее, когда почувствовал сталь ножа на своем теле и то, как потом прижгли рану раскаленным прутом.
— Чисто получилось, — с удовлетворением сказал кто-то. — Несите аккуратно, если веревка соскользнет, истечет кровью. Хотя, вроде крепкий, должен выдержать. Да, аккуратнее несите бараны! Тридцать золотых несете! Если он подохнет, я вам все зубы выбью!
Впрочем, Ратко уже потерял сознание от боли и ничего не слышал. А, если бы и слышал, то ничего бы не понял. Этот язык он тогда не знал. Он и подумать не мог, что эта речь станет ему родной…
* * *
Нотарий Стефан, мелкий писец императорской канцелярии, снова проснулся от собственного крика. Больше десяти лет прошло, а снится ему один и тот же сон почти каждую неделю. И заканчивается он всегда одинаково. Прощальный крик матери, страх и боль. Маленькая каморка, в которой он жил, была обставлена убогой мебелью. Люди думают, что императорские евнухи золото гребут лопатой, да только это не совсем так. Вот постельничий императора, Великий Препозит священных покоев и, правда, богаче всех на свете. Его слова быстрее всех попадают в ухо Августа Ираклия. И допуск на аудиенцию к величайшему тоже через него проходит. Так что кое-кто из евнухов богат, но только не мелкий писец, которому еще и двадцати лет не исполнилось. Он получает грошовое жалование, за которое день и ночь разбирает прошения к императорским чиновникам и лично Августу, читает переписку с провинциальными властями и пишет им ответы, которые потом несет на утверждение к начальству.
Его жизнь плоха? Да нет, в общем то. Он вполне счастлив. Да, он лишился кое-каких радостей жизни, ну, так он их и не знал, а потому не может оценить всю тяжесть потери. Судя по личной жизни кое-кого из его знакомых, эта тяжесть не так уж и велика. Нет, Стефан своей жизнью доволен, как и сотни писцов в императорской канцелярии, которые были евнухами все до единого. Императоры опасались «бородатых» слуг, а потому большую часть придворных должностей занимали именно эти, навсегда потерявшие обычные радости, безбородые и бесполые существа. Их считали подобными ангелам, потому что они были лишены плотских страстей. Свое искалеченное тело они радовали дорогими одеждами и изысканными яствами, беспощадно обдирая просителей и вообще всех, до кого могли дотянуться их алчные руки. Ведь только золото могло согреть их холодные, лишенные любви сердца. Евнухи исполняли еще одну роль. Их, ненасытных грабителей и взяточников, императоры использовали, как свою личную копилку. Потому что императорские евнухи служили государству и Августу, и только он считался их наследником. Такая вот у них была судьба, у счастливцев, которым удалось выжить…
— Это было немного неожиданно, владыка, — сказал Деметрий, когда хмель начал его отпускать. Пробуждение получилось очень странным. Еще ни разу за всю свою долгую жизнь он не просыпался со сломанной ногой, туго затянутой в деревянную шину.
Он лежал в собственном домике, где около печи — каменки сидела на корточках незнакомая худенькая девчонка лет пятнадцати, которая робко смотрела на хозяина и его высокого гостя. Она расположилась рядом с печью, подкладывая туда нарубленный валежник. Рядом стояла еще одна лежанка, и Деметрий совершенно точно знал, что вчера ее там не было. Его оружие висело рядом на стене, а вещи и доспех кто-то аккуратно сложил в деревянный сундук. Была осень, и по земляному полу тянуло стылым сквозняком, отчего девчонка поджимала замерзшие пальцы ног и придвигалась поближе к очагу. У нее из вещей не было ничего, кроме рубахи до колен, ведь она совсем недавно пришла сюда из земель дулебов, где ее деревушку сожгли авары. Она тогда чудом в лес ускользнула.
— Я же тебе обещал, что ты до весны ходить будешь. Забыл? — глаза князя излучали невинность и обиду. — Да если бы я тебе рассказал все, что будет, ты бы не согласился.
— Да как же я так напился, что не почувствовал, как мне ногу сломали? — изумился Деметрий.
— Маковый отвар в мед добавили, — махнул рукой князь. — Тут неплохая ведунья живет, она помогла. Два месяца полежишь, и как новый будешь. Ладно, отдыхай! Збыху скажу, он будет заходить к тебе. В шахматы поиграете.
— С ним неинтересно играть, — ответил Деметрий. — Он же выигрывает всегда.
— Зато ему интересно, — парировал князь. — Ходил бы он к тебе, если бы ты всегда выигрывал?
— Да, за два месяца я тут от скуки с ума сойду, — задумчиво сказал Деметрий.
— А ты вот мне скажи, — резко повернулся к нему Самослав, который уже собрался уходить. — Вы же авар в бою били?
— Били, конечно, и не раз, — с недоумением посмотрел на него тагматарх. — Если людей хватает, то в этом никакой хитрости нет.
— А как?
— Легкие всадники связывают их боем, а потом удар наносят тяжелые катафрактарии. У нас они даже получше, чем у авар будут. Хотя, честно сказать, их тяжелая конница очень хороша. Обычно это знатные воины из богатой семьи. Они, кроме упражнений с оружием, больше и не занимаются ничем, за них рабы трудятся. Очень опасные ребята.
— А если нашу пехоту против тяжелой конницы в чистом поле выставить, есть шансы? — заинтересованно спросил Само.
— Никаких, — покрутил головой Деметрий. — Растопчут.
— А если сделать длинные, очень длинные копья с толстым древком. Длиной шагов в восемь-десять и выставить целый лес перед всадниками? — уточнил князь.
— Тогда да, наверное… — на лице военного была написана глубокая задумчивость. — Но так же еще никто не делал… Первая война, да? Да кто вы такой, все-таки?
— Первая, — кивнул Самослав. — И я тебе уже отвечал, кто я такой. Так что думаешь?
— Думаю, все равно