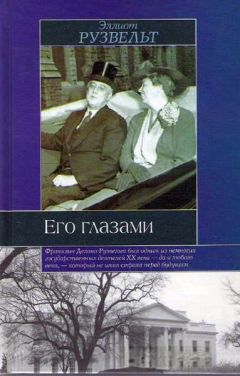Он, конечно, понимал, что послы, в том числе и советские, не имеют права принимать решения по кардинальным вопросам межгосударственных отношений, не получив соответствующих указаний от своего правительства.
Но Рузвельт рассчитывал на другое. Он был уверен, что его ум, многолетний политический опыт, способность быть и «львом» и «лисицей», изощренность в полемике помогут ему «покорить» советского дипломата.
Конечно, президент не надеялся, что в результате их встречи Громыко откажется от требований, на которых до этого твердо настаивал. При всех условиях ответ советского посла можно было предвидеть: «Я доложу в Москву о нашей беседе, господин президент».
Нет, цель, которую поставил перед собой Рузвельт, заключалась в другом: добиться того, чтобы посол «внутренне» принял его аргументы. И что же дальше? А дальше можно будет рассчитывать на то, что Громыко напишет в Москву доклад, в котором как бы от себя, но оперируя доводами президента, постарается убедить правительство в необходимости изменить точку зрения, проявить большую гибкость. И при этом даст понять, что в ином случае весь проект создания ООН может пойти «под откос».
И вот он вошел. Человек в темном костюме, черноволосый, со спокойным, сосредоточенным, неулыбчивым лицом. У двери он вежливо попрощался с сопровождавшим его заведующим протокольным отделом государственного департамента — Рузвельт, зная, что Громыко отлично владеет английским, выразил желание, чтобы они разговаривали с глазу на глаз.
Несколько ускоряя шаг, советский посол подошел к письменному столу, за которым сидел Рузвельт.
— Здравствуйте, мистер президент, — сказал Громыко.
Они обменялись рукопожатием, и Рузвельт с улыбкой гостеприимного хозяина указал на кожаное кресло.
— Я рад вас видеть, мой дорогой посол, — подчеркнуто дружелюбно проговорил президент и добавил: — Мы живем в такое время, когда вместо естественного для вежливого человека вопроса: «Как вы поживаете?» я должен спросить: «Как дела на фронте?»
— Трудности есть, но наши военные оценивают общую обстановку как весьма благоприятную для войск коалиции.
Сейчас в президентском кресле сидел не «Рузвельт-лев», а «Рузвельт-лисица». Убежденный в том, что почти все дипломаты честолюбивы, президент доверительно-дружеским тоном как бы давал понять Громыко, что выделяет его среди других послов и что разговор их носит интимный характер. Однако на первый же свой вопрос получил сдержанный ответ. Логически точный, но сдержанный.
Впрочем, не о военных делах думал сейчас Рузвельт. Цель его разговора с Громыко была иной, и посол об этой цели, конечно, догадывался, хотя никак еще этого не проявил. Но ведь разговор только начинается, подумал президент.
— Приятно слышать! — воскликнул он. — Я думаю, что вскоре после того как состоится очередная встреча «Большой тройки», враг испытает на себе новую силу наших согласованных ударов. Как оптимист я уверен, что недалек тот день, когда мир будет праздновать победу. Вы согласны с этим?
— Хочу быть согласным, мистер президент.
«Надо выводить разговор на основное русло», — подумал Рузвельт. И сказал, постукивая своим мундштуком по столу:
— Вам это может показаться парадоксальным, но меня... меня охватывает чувство некоторой тревоги, когда я думаю, что победа уже близка.
Громыко ничего не ответил, только чуть приподнял свои густые брови. Казалось, он подумал: «Что же теперь последует?»
— Вы хотите знать, почему, не так ли? — продолжал Рузвельт, но тут же, точно спохватившись, спросил:— Какой коктейль вы предпочитаете, мистер посол? — И он с радушной улыбкой указал на столик с бутылками, бокалами и ведерком со льдом. — Ваш босс, кажется, предпочитает водку, — заметил он. И добавил с легкой усмешкой: — Из патриотических чувств, конечно!
— Насколько мне известно, — ответил Громыко, — он предпочитает легкое вино. Впрочем, наверное, в Тегеране вы сами могли в этом убедиться.
— Легкое вино и тяжелая рука... — многозначительно проговорил Рузвельт. И, немного помолчав, добавил: — Мы, американцы, очень уважаем маршала за его стойкость, решительность и... — он сделал небольшую паузу, — готовность к разумным компромиссам.
— Я позволю себе заметить, — ответил Громыко, — что вы, мистер президент, пользуетесь уважением в моей стране примерно за те же качества... включая готовность к разумным компромиссам.
— Отлично! — сказал, потирая руки, Рузвельт. — Мы, кажется, поняли друг друга. Так вот. Я не случайно сказал, что испытываю чувство тревоги в связи с предстоящим окончанием войны, хотя это и могло прозвучать как парадокс.
— Могло... но не прозвучало, — ответил Громыко, спокойно глядя в глаза Рузвельту.
«Нет, нет! — с досадой подумал президент. — К нему нужен совсем другой подход — салонно-интимный здесь неуместен».
— Видите ли, господин посол, — сказал Рузвельт, переходя с добродушного на серьезно-деловой тон, — я привык иметь дело с профессиональными, или, как мы говорим, карьерными, дипломатами. И все же я предлагаю: давайте поговорим открыто, по-человечески.
— Открытый, человеческий разговор с президентом Соединенных Штатов я и на сей раз почел бы за честь, — подчеркнуто вежливо сказал советский посол.
— Ого! — рассмеялся Рузвельт. — Такую фразу мог бы произнести и западный дипломат...
— С одной лишь разницей, — возразил Громыко, — он мог бы сказать правду и... неправду. Я говорить неправду не научился. И, надо думать, никогда не научусь — этому препятствуют традиции Советского государства и его дипломатии. И, если хотите, — с улыбкой добавил он, — особенности характера.
— Прекрасно! Я расскажу об этом моему государственному секретарю, пусть наши дипломаты перенимают хорошие традиции. Я говорю совершенно серьезно. А теперь о моей тревоге. У каждого человека, мистер Громыко, есть мечта. У порядочного человека своя, у подлеца — своя... Не забудем, была ведь она и у Гитлера. Знаете, какая у меня мечта? Я хочу, чтобы эта война была последней. Я мечтаю о «Доме Добрых Соседей» — так, простите, не без некоторой сентиментальности я окрестил будущую Организацию Объединенных Наций. Вы, конечно, разделяете эту мечту?
— Само собой разумеется. И, что гораздо важнее, ее разделяют Советское правительство и советский народ.
— Рад это слышать. Аналогичную мысль мне высказывал маршал Сталин еще в Тегеране. Так вот, не скрою: я сейчас все время думаю о Думбартон-Оксе. Я был счастлив, когда узнал, что после длительных споров, обсуждения замечаний и редактуры поправок участники Конференции достигли единодушия по таким сложным вопросам, как структура будущей Организации, ее состав, механизм ее деятельности, — впрочем, как непосредственный участник переговоров вы все это знаете лучше меня. Да, для меня это было настоящим праздником, и я даже выпил два бокала моего любимого коктейля. Вместо одного! А вы, я вижу, почти не притрагиваетесь к своему бокалу! — с укоризной сказал Рузвельт.
— Спасибо, мистер президент, я попробовал. Прекрасный коктейль! — ответил Громыко. — Но этого достаточно. Разговор с вами слишком важен.
— Что ж, вы находитесь в свободной стране! — воскликнул Рузвельт и весело улыбнулся, чтобы его собеседник не усмотрел в этой фразе какого-либо политического подтекста. — Демонстрируя мою готовность к разумным компромиссам, я тоже оставлю бокал недопитым... Итак, перейдем к делу, мистер Громыко! Вам не кажется, что требование Советского Союза, чтобы в Организации Объединенных Наций были представлены все шестнадцать республик, носит несколько... как бы это сказать... максималистский характер? У вас нет впечатления, что оно все же выходит за рамки реальных возможностей? Мы называем эту проблему «вопросом Икс» — из опасений, что широкая огласка советского требования неизбежно вызвала бы недовольство в определенных кругах, ведь ни один из наших штатов не будет самостоятельно представлять Америку в ООН.
— Но наше требование предусматривает, что каждая республика будет представлять только себя! — спокойно заметил советский посол.
— Если так, то почему бы и нашим штатам не последовать их примеру?
— Хотя бы потому, что это было бы нарушением вашей конституции, мистер президент, — сказал Громыко таким тоном, словно забота о незыблемости американской конституции была для него самой главной.
— По-моему, вы несколько усложняете вопрос, господин посол, — с некоторой досадой сказал Рузвельт, чувствуя, что намеченный им план разговора себя явно не оправдывает.
— Нет, мистер президент, я вовсе не усложняю его. Он элементарно прост. В нашей Конституции зафиксировано право каждой союзной республики на внешнеполитическую деятельность. И право на самоопределение — вплоть до отделения. Разве есть что-либо аналогичное в американской конституции? Я говорю сейчас о правах штатов. Поверьте, я испытал бы чувство неловкости, если бы не знал во всех деталях конституцию вашей страны.