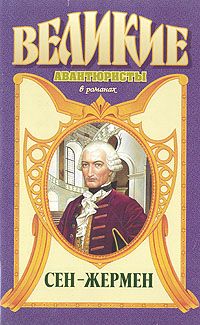…В тот первый мой приезд в Париж — случилось, это дай Аллах памяти в июле сорок четвертого года — я уже сидел на козлах. Неуютно мне было в почтовой карете рядом с важными господами, которые то и дело обращались ко мне со словами «милостивый государь». Ну, какой я «мсье» или «херр»!.. Трудно было привыкать к парику, к шелковым чулкам, к кафтану, жилету. С языками тоже не все ладно… Буквы «d» и «v» до сих пор не дается, вот и проскальзывает иной раз, как у немца: «матам», «матмуазель», «люпофь». Все смеются… Хозяин одевал меня, не скупился, только все эти причиндалы мне было легче осваивать на козлах, один на один с лошадками. Завернешься в плащ, надвинешь поглубже треуголку, взмахнешь кнутом — и на сердце вольно делается. Едешь, посматриваешь по сторонам, с лошадками разговариваешь. Спрашиваешь, как вам, ребята, италианский пейзаж? Или сырой воздух острова, называемого хозяином «туманным Альбионом»? Альпы хороши, но пониже нашего Кавказа или Эльбурса. Зелени в Европе много — это да, климат благоприятствует произрастанию растений. Воды вдоволь!.. Пей, поливай не хочу… И ветры благодатные, особенно когда веют с океана.
Я полюбил море, всегда радуюсь, когда хозяин начинает морщиться и отправляет меня в порт договориться с капитаном о морском путешествии. Никакая качка меня не берет, а воспоминаний уйма. Как мы из Алеппо добирались до города на водах, называемого чудно и звонко — Венецией. Как меня продали капитану галеры, ходившей по Каспию вдоль южных берегов. Вот когда мне пришлось натерпеться. Это случилось как раз, когда турки взяли Эривань и меня, двадцатилетнего, здоровенного, принявшего у новых родителей веру в Христа византийского толка, загнали в угол между башней и стеной и заставили сдаться. Так и сказали — сдавайся, христианская собака!
Я сдался. Меня сразу вязать, потом на галеру. Спасся единственно тем, что грамотный и считаю в уме любые числа в любом порядке. Как-то подсказал ответ купцу из армян, из Новой Джульфы, принявшему мусульманство, тот и перекупил у меня у капитана. Вот попался неугомонный — ему просто не терпелось обратить мой взгляд к Аллаху. Так и сказал — или сгниешь в тюрьме, или увидишь свет невечерний. Дочкой своей смущал. У толстого Вартана почему-то одни дочки нарождались. Купцом мне быть не хотелось, уже был учен: то налоги, то гонения какие-нибудь на вновь обращенных, то, не дай Аллах, христиане явятся, да и считать все время приходилось одно и то же. Скучно! Есть сколько других областей, в которых счет можно вести с помощью отвлеченных букв, и посредством самых малых, неуловимых разумом долей. Вот, например, как они складываются? Ага, не знаете — то-то… Попросту сливаются, но тут есть свой закон, предписывающий порядок разложения какой-нибудь величины на бесконечно малые доли и объясняющий, как их потом опять соединить. Купцу все это было невдомек, ему было неинтересно, но все равно он крепко держался за меня, пока не подарил Мехди-хану. Попробовал бы не подарить, тот его в порошок бы стер. Однако я пришелся не по нраву великому мирзо. Почерк у меня отвратительный, а мои рассуждения о числах ему были вовсе ни к чему.
Тогда меня приставили к господину Сен-Жермену. На время, а если заплатит, то и навсегда. Граф заплатил, теперь я лежу в славном городе Париже, вспоминаю былое, прикидываю, где удобнее совершить обряд жертвоприношения — в Булонском или Венсенском лесу. В Венсенском поближе и местный егерь мой старый знакомый. И людей там поменьше. Поеду загодя, где купить козу, знаю — хорошая, чистенькая, взрослая козочка. Совершу омовение до восхода, переоденусь, сам себе прочитаю: «Хвала Аллаху, владыке всех миров…» Все сделаю, как положено. Повалю животное на землю головой в сторону Мекки, положу в рот леденец — на нем скопится благословение Божье. Бисмиллах, Аллах акбар! Собранную кровь и печень козы заверну в черную тряпку, чтобы скрыть их от дневного света, помолюсь, вспомню легенду, расскажу её мадам Бартини — она меня уважает — приготовлю из освященного мяса кебаб. Мы с ней вкусим чистую пищу, потом я ещё помолюсь. Господи, прости раба своего, Иакова.
Бисми Ллахи р-рахмани р-рахим!..
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного…
На душе станет тепло, просветлеет мир, обнажится правда.
Что есть истина? А вот вся она здесь. Как-то спросил меня один из друзей хозяина — большой вали,[83] маркграф немецкой земли! — как же у меня хватает смелости кощунствовать над установлениями божьими и сваливать в одну кучу обряды грязного еврейского племени, варварский культ обидчиков христианства мусульман и собственно таинства и праздники святой веры христовой? Спросил без злобы, скорее с изумлением. Если бы был злобен, то и спрашивать не стал — вмиг засадил бы в темницу, как гнусного изворотня. Я таких за версту чую и стараюсь держаться от них подальше, так что вряд ли кто догадывается, что живу я на свете своей верой. Есть у меня свои святые… Кто они? Все, в кого вы тоже верите и кому поклоняетесь. Если человек свой век прожил честно, за правду пострадал, зачем отказывать ему в святости? Только у меня просто все, без словесных ухищрений. Я так господину Карлу и объяснил — словами пророка Илии, стоя, как говорится «на одной ноге».[84]
— Бог етин, милостиф и милосертен. Прощай чужие грехи, как прощал Иисус Христос. Что неприятно тебе, не телай своему ближнему. Фсе остальное разъяснения…
Маркграф отправился размышлять, а я занялся починкой сбруи. Потом решил подремонтировать сапоги — натер воском дратву, наточил шило. Все-таки мой отец был сапожником, чувствую я в себе природную склонность к обуви. Не люблю, когда сапоги грязные или прохудились. Еще по сердцу мне твари, порученные Господом человеку на воспитание — лошади, собаки, кошки. Вот что непонятно, меня драли кнутом, лупили по пяткам, огнем пытали за то, что я человек, но их по какой причине мучают?
В первый мой приезд Париж произвел на меня благоприятное впечатление. Вокруг много людей, здания высоки, дворцы нарядны, но люди — парижане эти самые — далеки от доброжелательности. Хозяйка мадам Бартини, в ту пору два года как овдовевшая, бездетная, косо глянула на меня и постаралась вытурить из дома. Мне-то что, мне плевать — я могу и на конюшне, рядом с лошадками, в экипаже. Хозяин однако выторговал мне место в небольшом чуланчике. Долго объяснял, пусть её не смущает мой чернявый вид и гортанный выговор. Он скоро освоится… Наконец господин сказал, что на руку я чист. Я в ту пору уже неплохо говорил по-ихнему, так что разобрал, что она ответила господину Сен-Жермену.
— A la bonne heure. Vous autres étrangers, vous ne dites le mot propre qu’à la fin.[85]
Так я познакомился с доброй Клотильдой.
Два дня прошли в ожидании полковника Макферсона. Никаких известий! Господин извелся, на улицу не выходил — объяснил, что не к лицу ему появляться в местах, где собирается простонародье, а ко дворцу его никто не приглашал. Зашел к нему как-то человек зверского вида и разговаривали они на каком-то тарабарском языке. Я таких звуков нигде не слышал — ни в Европе, ни в Азии. Оказалось, толковали они на «мадьярском». Потом граф поделился со мной, что отец его, владетельный князь Ференц Ракоци, получил от французского короля Людовика XIV в кормление Отель де Вилль, где устроил игорный дом. С сыном повидаться не может, однако денежные дела Сен-Жермена устроены, вклады сделаны в такие-то банки.
Я все это время бродил по улицам. Чем больше гулял, тем больше удивлялся тому, что налоги в этой стране собирают без помощи армии. Сразу было видно, что сардары давненько не перетряхивали сундуки горожан, им не резали ушей, носов, не ослепляли на один глаз, не рубили голов. Знатных здесь встречали так же, как в Исфахане — воплями, улюлюканьем и радостными возгласами. Местные муллы из высокопоставленных не гнушались цветных нарядных тканей. Толпа была на редкость пестрой, какого только рода-племени здесь не встретишь. Удивляли индийские факиры, часами глотающие на улицах огонь и мечущие друг в друга ножи. Чернокожие и люди, как мне объяснили, добравшиеся сюда из какой-то Америки и отличавшиеся красноватой кожей и гордым видом, часами просиживали в кофейнях. Хватало здесь и нашего брата, перса, то и дело натыкался на арабов. Все бродяги! Смущали оголенные женские лица и то бесстыдство, с каким уличные девки, задирая юбки, при всем честном народе поправляли подвязки на чулках. В Исфахане не миновать бы им шариатского суда. Я не против, когда молоденькая, нарядная девица прибегает к помощи румян, но когда встречаешь напудренную, наставившую на дряблые щеки полдюжины мушек старуху, жалеешь, что мухаммедов запрет не распространяется на Париж.
Познакомился я и с местным дервишем. Удивительным именем наградили его местные жители — Пятнадцать луковиц, и все потому, что на день пропитанием ему служат исключительно полтора десятка головок. Он разумен, отказывает себе во всем, что не нужно для жизни. Промышляет переноской грузов разгуливает по Парижу с огромной корзиной за плечами: днем разносит в ней на заказ всякую всячину, а ночью спит в ней, устроившись возле городской колоннады. Поговорив с ним, я узнал, что живет он так вовсе не по необходимости — в день пару другую ливров он всегда зарабатывает. Из этих денег подает милостыню, бедные просят у него взаймы и никогда не знают отказа. Пятнадцать луковиц никогда не требует возврата денег. Когда его спросишь, почему он так милосерден к должникам, отвечает — значит, они им нужнее. Вот что удивительно — в отличие от других парижан говорит коротко…