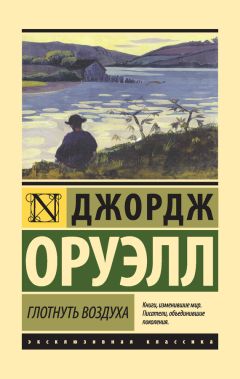Крутая свара коммунистов превратилась в личную перепалку юного троцкиста с белобрысым парнишкой. Спорили ребята насчет того, надо ли в случае военных действий идти на фронт. И пока я между рядами протискивался к выходу, белобрысый воззвал ко мне:
– Мистер Боулинг! Ну вот хоть вы скажите: если бы грянула война и нам представилась возможность прикончить наконец фашизм, разве вы не пошли бы воевать? Я имею в виду – будь вы моложе?
Парень явно считал, что мне за шестьдесят.
– Смело ставьте на то, что не пошел бы, – ответил я.
– Но разгромить фашизм!
– Да провались этот хренов фашизм! Лично я досыта уже навоевался.
Юный троцкист вклинился было с обвинением ренегатов в социал-патриотизме, измене пролетарским принципам, однако противники вмиг его заткнули.
– Но вам же, мистер Боулинг, вспоминается 1914 год. То была лишь очередная схватка империалистов. Теперь совсем другое. Неужели, когда вы слышите про то, что творится в Германии – концлагеря, уличные побоища, нацисты с дубинками, откровенная гнусная травля евреев, – у вас кровь в жилах не закипает?
Насчет кипящей крови это обязательно. Помнится, всю войну о ней дудели.
– С 1916 года перестала кровушка у меня кипеть, – сказал я парню. – И у вас перестанет, как надышитесь окопной вонью.
Вдруг я увидел, кто передо мной. Будто впервые разглядел голубоглазого паренька с волосами цвета пакли.
Лицо взволнованное, чистое, как у пригожих старшеклассников, смотрит на меня в упор, и в глазах даже настоящие слезы блеснули! Вот как страдает всей душой из-за гонимых немецких евреев! Понятна, впрочем, реальная почва его переживаний. Здоровый парень (играет, должно быть, за команду местных регбистов), умом он тоже явно не обижен, а живет в пригородном захолустье, служит клерком, сидит за кассовым окошком банка, день-деньской корпит, сличая цифры да считая пачки денег, и должен задницу лизать директору. Невмоготу ему тухлые будни. А в Европе тем временем грандиозные события: рвутся снаряды над траншеями, сквозь мглу порохового дыма смело кидаются в атаку пехотинцы. Возможно, кто-то из его приятелей сражается в Испании. Естественно, он рвется воевать. И как его винить? На миг мне даже показалось, что передо мной мой сын (по возрасту парнишка вполне мог бы им быть). Припомнился тот душный, знойный августовский день, когда мальчишка наклеил напротив бакалеи плакат «АНГЛИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙНУ ГЕРМАНИИ» и мы, юнцы в белых фартуках, с воплем счастья выскочили на тротуар.
– Слушай, сынок, – сказал я, – зря ты так заводишься. И мы в 1914-м верили, что предстоит славное дело. Ошиблись, однако. Только сплошной проклятый кавардак. Ты, если снова полыхнет, держись от этого подальше. Зачем тебе подставлять свое молодое тело под пули? Побереги-ка его лучше для подружки. Ты думаешь, на войне героизм и боевые ордена? Да уверяю тебя, ничего подобного. Нет больше штыковых атак, а если доведется такое испытать, будет совсем не то, что тебе видится. Ты не почувствуешь себя героем. Почувствуешь ты лишь смертельную усталость после трех бессонных суток, почувствуешь, что провонял весь как хорек, что штаны мокрые от страха, а руки так закоченели, что винтовку не удержать. И главное – что уже на все наплевать. Вот так будет.
Эффект, конечно, нулевой. Молодым просто кажется, что ты отстал от жизни. С тем же успехом я мог, постучавшись в дверь, вручить ему душеспасительную книжицу.
Народ стал расходиться. Уитчет повел лектора к себе домой. Троица коммунистов ушла вместе с евреем-троцкистом, по пути продолжая толковать насчет рабочей солидарности, диалектичной диалектики и словах Троцкого в 1917 году. Им бы все только о своем. На улице к холодной сырости добавилась полная темень. Фонари, мерцая дальними звездами, совершенно не освещали мостовую. Со стороны Главной улицы слышался шум стучащих по рельсам поездов. Хотелось выпить, но было уже почти десять, а до ближайшего паба – полмили. Кроме того, хотелось поговорить не так, как болтаешь с кем-нибудь в пабах. Мозги у меня в тот день, ей-богу, свернуло набекрень. Отчасти потому, что не работал, отчасти новенькие зубы настроили на новый лад. С утра тянуло размышлять о будущем и прошлом, теперь жаждалось побеседовать насчет нависшей беды (грянет или, быть может, обойдется?), насчет лозунгов, форменных рубашек, оптимально и гладко наштампованных на востоке Европы солдат, подготовленных придушить нелепую старуху Англию. Из Хильды тут собеседник никакой. Тогда мне стукнуло пойти навестить Портиуса, моего приятеля, который всегда допоздна не спит.
Портиус – отставной учитель частной закрытой школы. Квартира его в старой части города, около церкви, и, по счастью, на нижнем этаже. Он, разумеется, имеет степень бакалавра. Женатым его даже не представить, живет отшельником, почитывая свои книги и дымя своей трубкой, по хозяйству его обслуживает какая-то приходящая тетка. Парень он образованный: знает латынь, греческий, тысячи стихов и все такое. Левый книжный клуб у нас представляет, можно сказать, «прогресс», а Портиус – «культуру». То и это невысоко ценится в нашем Западном Блэчли.
Свет горел в комнатке, где старина Портиус обычно сидит, читает ночи напролет. На мой стук он вышел в прихожую. Такой же, как всегда: в зубах трубка, в руке книга, заложенная пальцем. Худющий и долговязый, с шапкой седых кудрей, со своим суховато-бледным, мечтательным и, несмотря на возраст (ему уже под шестьдесят), почти юношеским лицом, выглядит он слегка чудаковатым. Странно, как эти университетские ребята умудряются до гроба оставаться постаревшими мальчиками. Стиль, надо полагать. Портиус имеет привычку неторопливо расхаживать туда-сюда – такой особенный, красивый, седокудрый и чуть отрешенный, что чувствуется: мыслями он далеко, витает где-то в книжных строчках, и дела нет ему до того, что вокруг. На него только глянь, все ясно насчет пройденного пути: закрытая частная школа, потом Оксфорд, потом в той же своей шикарной школе уже преподавателем. Всю жизнь он в атмосфере древних веков и крикета. Тон благороднейший. Портиус вечно в старом пиджаке из харрис-твида[45] и старых, мешками обвисших серых фланелевых брюках, которые он с удовольствием сам признает «позорными»; он курит трубку, презирая сигареты, и хоть ложится чуть не на рассвете, но утром, я уверен, непременно принимает холодную ванну. Думаю, с его точки зрения, мне не хватает воспитания. Я не учился в пансионе, не знаю никакой латыни и даже не стремлюсь к подобным штучкам. Иногда он бросает вскользь, как жаль, мол, что меня «красота не очень трогает» (вежливо намекает на мою неотесанность). И все же он мне страшно нравится. Ему свойственно настоящее, неподдельное дружелюбие, он всегда рад принять тебя, поговорить с тобой в любой час дня и ночи и угостить всегда имеющимся под рукой добрым стаканчиком. Если живешь, как я, в доме, где шагу не ступить, не натолкнувшись на детей или супругу, неплохо порой очутиться в холостяцкой каминно-книжно-табачной берлоге. И этот дух оксфордской классики, когда вроде бы ничего на свете нет важнее книг, стихов и древних скульптур, да и событий важных не случалось со времен готского вторжения в Рим, – от этого как-то еще уютнее.
Усадив меня в дряхлое кожаное кресло у камина, Портиус отошел смешать виски с содовой. Ни разу мне не приходилось видеть его гостиную без стелющихся в воздухе клубов густого табачного дыма; потолок уже почернел от копоти. Сама комната небольшая, стены, за исключением окна и двери, сплошь закрыты книжными стеллажами. На каминной полке все, что положено в подобной обстановке: ряд прокуренных и нечищеных вересковых трубок, несколько античных монет, банка для табака с эмблемой родного колледжа и стародавний глиняный светильник, по словам Портиуса, лично им откопанный в каких-то горах Сицилии. Над камином висят фотографии греческих статуй. В центре, на самом крупном снимке, безголовая женщина с крыльями, которая словно ринулась остановить автобус. Помню, как я потряс старину Портиуса, когда, придя сюда впервые, не нашел ничего лучше, чем спросить: «Почему не подремонтировали изваяние, голову не приделали?»
Портиус принялся вновь набивать трубку душистым табаком из банки на камине.
– Эта несносная особа наверху приобрела себе беспроводной приемник, – пожаловался он. – Я так надеялся прожить остаток жизни без воя этих ящиков. По-видимому, безнадежно. Вы, случайно, не знаете, каковы здесь позиции законодательства?
Я сказал, что тут уж ничего не поделаешь. Мне нравится оксфордская манера со словечками типа «несносная» и мне приятно в 1938 году встретить человека, который против орущего на весь дом радио. Рассеянно прохаживаясь, руки в карманах, трубка в углу рта, Портиус сразу заговорил насчет какого-то закона против музыкальных инструментов, принятого в Афинах времен Перикла. Всегда у него так. Все его разговоры лишь о том, что было сотни лет назад. С чего ты ни начни, он твердо вырулит к стихам и статуям, грекам и римлянам. Ты ему новости про «Куин Мэри»[46] – он тебе тут же про финикийские триремы. Никогда не читает современных книг, даже названий их не хочет знать, не раскрывает ни одной газеты, кроме «Таймс», и с гордостью упоминает, что ни разу не был в кинотеатре. Если б не несколько поэтов типа Вордсворта и Китса, то, по его мнению, современный мир (а это для него последние две тысячи лет) вообще существовал невесть зачем.