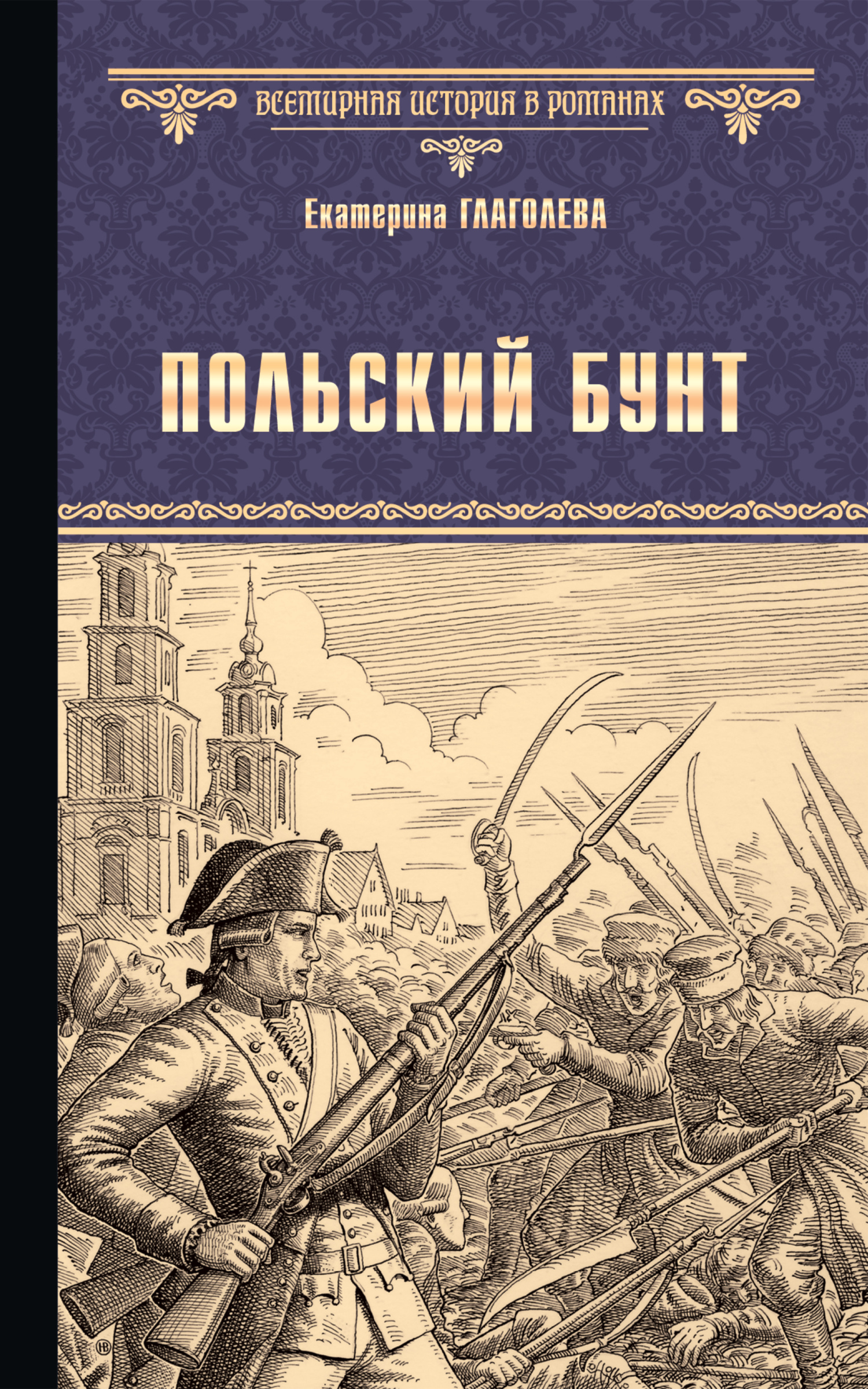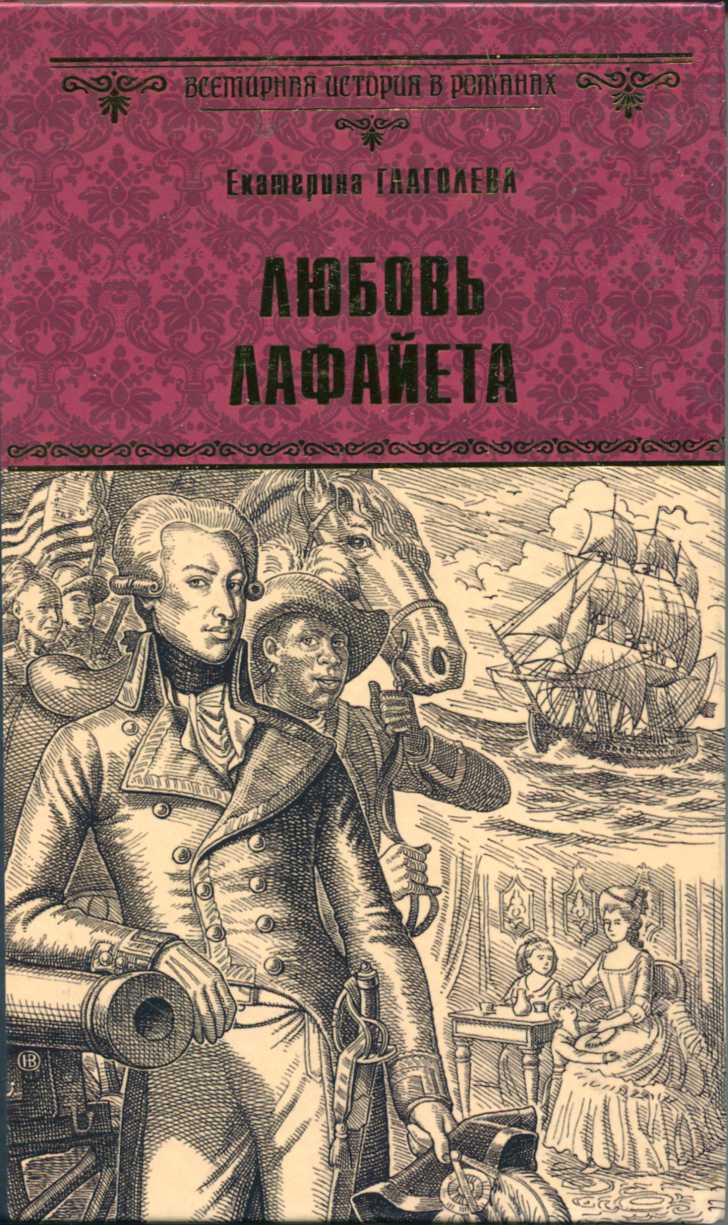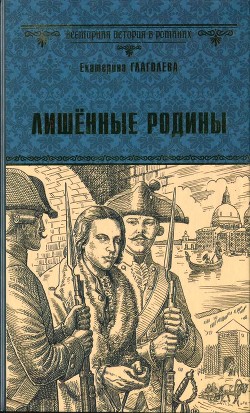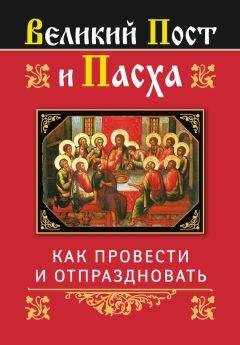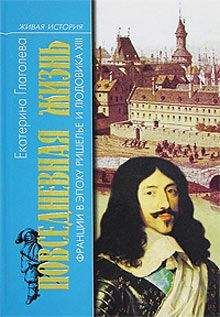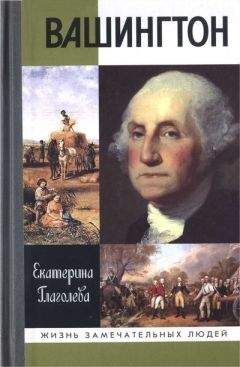скатилась в корзину девятого ноября. На эшафоте Манон воскликнула: «Какие преступления совершаются во имя свободы!» Через месяц туда же приволокли госпожу Дюбарри…
Мостовский не знал об этом: в Труа его снова арестовали, и если бы не заступничество Эро де Сешеля, одного из авторов Конституции, случайно оказавшегося в этом городе, его, наверное, тоже казнили бы. Вернувшись в Варшаву после всех этих злоключений, он сразу отправился к барону Игельстрёму и честно обо всём рассказал, объяснив свои поступки и заверив в невинности своих намерений. Барон поверил ему и отпустил в свои деревни. Две недели прошли в блаженном покое. Всего две недели… Спаситель-Руслен, которого благодарный Мостовский пригласил к себе в Польшу, решил воспользоваться этим приглашением, чтобы самому избежать гильотины; его письмо перехватили люди Сиверса, находившегося тогда в Гродно. Каштелян рачёнжский – якобинец! Его арестовали, нашли в его бумагах письмо от поверенного в Париже с упоминанием вещей, оставленных на сохранение, а также старые письма княгини Любомирской и жены Мостовского, урожденной Радзивилл, в которых они сокрушались об участи Польши. Олимпия давно жила в Вене; брак с ней был ошибкой: Тадеуш женился на ней по капризу в двадцать один год, наперекор родителям… Мостовского снова посадили в тюрьму, и он провел там три месяца, пока императрица Екатерина не повелела Игельстрёму освободить его. Барон потребовал от Тадеуша расписку в том, что он ненавидит французских якобинцев, не станет распространять их взглядов в Польше и, сделавшись подданным Ее Императорского Величества, постарается угождать ей своим поведением. Это было в начале февраля девяносто четвертого…
Эро де Сешель взошел на эшафот пятого апреля, еще до начала восстания в Варшаве. Вести из Франции доходили с большим опозданием, и лишь совсем недавно, в июне, Мостовский узнал, что двадцать первого апреля Розалия предстала перед Революционным трибуналом. Общественным обвинителем был гнусный Фукье-Тенвиль, выдумавший против Марии-Антуанетты обвинение в инцесте (материнские ласки, расточаемые семилетнему сыну, – инцест?!) и представивший поездку госпожи Дюбарри в Лондон, где украденные у нее драгоценности пытались продать с молотка как оказание помощи эмигрантам-контрреволюционерам. К счастью, Розочке предоставили адвоката – Клода Франсуа Шово-Лагарда, человека стойких моральных убеждений и отменной храбрости. Он брался за заведомо проигрышные дела: защищал жирондистов, Марию-Антуанетту, госпожу Ролан, мадам Элизабет – сестру короля, даже Шарлотту Корде, которую назвал жертвой политического фанатизма. Фукье-Тенвиль обвинил княгиню Любомирскую и еще двенадцать человек, которых судили вместе с ней, в заговоре против французского народа, участии в интригах Луи Капета (то есть покойного короля) и разжигании гражданской войны. Надо полагать, Розочка осталась верна себе, поскольку речь Шово-Лагарда была краткой: «Вы заметили, судьи, с какой искренностью обращалась к вам обвиняемая в оправдании своих поступков? Она – неизменная подруга правды, раз заявила, что не хочет спасать свою жизнь ценою лжи. Вот и всё, что я могу сказать в ее защиту».
Впрочем, тут он покривил душой: Розалия всё-таки пошла на ложь для спасения своей жизни. Ее беременность была выдумкой, Тадеуш в этом уверен. Или нет? Этот виконт де Боссанкур, которому она подарила медальон со своим портретом… Его, кстати, тоже арестовали… Неважно. Главное – что её перевели из Консьержери в бывший монастырский приют под врачебный надзор поляка Юзефа Марковского – лекаря из села Пиков на Украине. Само Провидение привело Марковского в Париж! Он что-нибудь придумает, и Бог не попустит; Тадеуш молится об этом каждый вечер. А ещё Закжевский по его просьбе рассказал о Розочке Тадеушу Костюшке, и тот отправил в Конвент официальный запрос от имени Временного правительства Польши. Даст Бог, всё образуется. Иначе его душе не вынести такой тяжести…
Огинский не мог удержаться, чтобы не сравнивать постоянно Костюшко с Вельгурским, который и послал его к Начальнику в Фаленты. Лагерь Вельгурского расположился под Вороновым; там целыми днями шла гульба, офицеры пили и играли в карты в корчме, вместо того чтобы заниматься обучением рекрутов, а те мародерствовали по окрестным хуторам, пытаясь прокормиться: деньги, выданные помещиками на их содержание, давно закончились. Сам командующий до полудня, а то и позже не выходил из своего шатра. Здесь же на дальних подступах были выставлены посты и заслоны, без провожатого лагерь не отыскать в темном лесу, офицеры поддерживали дисциплину, а сам Начальник ел с солдатами из одного котла, спал на соломе и ходил в простой куртке из домотканого холста. Михал впервые увидел Костюшку и был… удивлен. Главнокомандующий десятью годами старше Вельгурского, но выглядит его ровесником: стройный, подтянутый, подвижный. Его невзрачное лицо со вздернутым носом, острыми скулами и чуть выступающей вперед нижней губой над раздвоенным подбородком оживлялось во время разговора, голубые глаза сияли детской восторженностью и верой. Подвижник – да, именно это слово больше всего подходило ему.
Он крепко обнял Огинского, назвав его дорогим собратом, подробно расспросил обо всём, что происходит в Литве, погрустнел, услышав, верно, привычную просьбу.
– Нет, ни людей, ни пушек дать сейчас не могу. Австрийцы взяли Сандомир, пруссаки и москали идут к Варшаве. Но что за беда, когда в моей родной Литве есть такие молодые патриоты, как ты, гражданин Огинский! Не в пушках наша сила, не в ружьях – надо будет, с косами и цепами, с голыми руками пойдем на врага, зубами будем грызть его глотку! Ведь мы не наемники, не захватчики – мы в своей стране, на родной земле, так неужели ж родную мать свою, Отчизну, защитить не сумеем!
Костюшко говорил увлеченно, слова лились, точно сами собой, и Михал почувствовал, как и ему передается воодушевление собеседника. Все тревоги и опасения, которым он предавался по пути сюда, сжались в серый пыльный комок, который легко задвинуть ногой под кровать и забыть о нем. Огинский понял, почему люди шли за этим человеком. Как не хватало его веры, его обаяния и красноречия Вельгурскому, который то и дело сбивался на немецкий!
Ясинский, впрочем, тоже умел хорошо говорить… Но Начальник отстранил его от командования, заменил Вельгурским… Тщательно подбирая слова, Огинский завел осторожную речь о том, что заслуженные герои и патриоты, готовые пролить за Отчизну свою кровь до последней капли, порой уже столько пролили этой самой крови, что не в силах поднять меч и пойти в атаку. Костюшко понял, куда он клонит, и справился о здоровье генерала Вельгурского. Обрадовавшись, Михал рассказал о том, как мучается генерал от старой раны в голову, полученной еще в Сербии, под Шабацем, в 1788 году: правый глаз ничего не видит и нестерпимо болит, нельзя