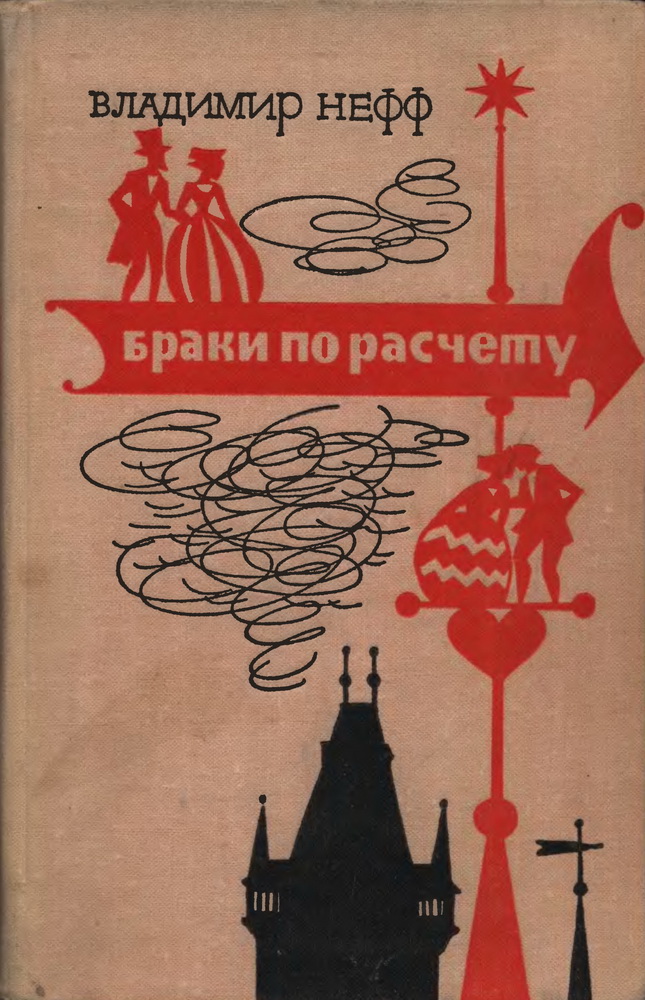— на это моя полиция способна, тут они мастера. А вот заметить, что всем известный неприятельский генерал спокойно разгуливает по будущему театру военных действий и срисовывает наши укрепления, — на это их нет!
А матушка, — ach du mein lieber Gott! [15] — матушка не хочет или не может понять, до чего изменились обстоятельства с тех пор, как несколько лет назад я писал ей в сумасбродной самонадеянности, что крепко держу власть в руках и что опасность какого-либо конституционализма предотвращена раз и навсегда. Она не чувствует, что почва в империи накалена так, как не бывало со времен проклятого сорок восьмого года, и что если я хочу умиротворить мои народы, то этого уже нельзя сделать кнутом, а только обещаниями и добрыми словами. Она не хочет простить мне, что я старался подсластить эту пилюлю — потерю Ломбардии — манифестом, где я говорил о необходимости благоустройства Австрии своевременным исправлением законодательства и управления… Она, такая умная и рассудительная, вдруг утратила ориентацию, не понимает, какая необходимость заставила меня прибегнуть к этим обещаниям, она видит в них лишь проявление слабости. Матушка, мой единственный друг и советник, вдруг заупрямилась и мучает меня своим кислым «тебе лучше знать, ты император, не я!» Ach du mein lieber Gott, какое это одиночество — царствовать над пятьюдесятью миллионами!
День начинался. Еще за несколько секунд до того, как на куполе придворной библиотеки захрипело во внутренностях старых часов, в коридоре перед покоями императора раздались резкие, старательно-чеканные шаги двух офицеров лейб-гвардии, явившихся занять свое место. Шаги приближались, четкие и поспешные, будто впереди был еще очень далекий путь, который надлежало проделать как можно скорее, — но, подойдя к двери гостиной, рядом с императорской спальней, офицеры, громко пристукнув каблуками, остановились как вкопанные. Строго говоря, личные покои монарха подлежали охране круглосуточно, но Франц-Иосиф, укладываясь вечером спать, обычно освобождал своих лейб-гвардейцев от этой службы — зато требовал, чтобы утром они были на месте секунда в секунду.
Тотчас вслед за этим в коридоре раздался совершенно невоенный звук — то было дребезжание чего-то тяжелого, металлического, что волокли по каменным плитам пола. Часы на библиотеке, после предупредительного хрипения, пробили четыре удара высоким колоколом, сопровождаемые четырьмя ударами басового колокола; дверь сейчас же отворилась, и в спальню без стука вошел, неся зажженную лампу, императорский личный камердинер Хорнунг, по профессии брадобрей, — приземистый пятидесятилетний человек с мясистым жизнерадостным лицом венского извозчика. За ним шел слуга, волоча за ручку железный бак с водой, от которой поднимался пар.
— Припадаю к стопам вашего величества и желаю доброго утра, — сказал Хорнунг, ставя лампу на доску камина.
— Благодарю. Какова сегодня погода? — ответствовал император, спуская ноги со своего жесткого спартанского ложа.
— Несколько свежо, ваше величество, с северной стороны, я измерял, — всего шесть градусов, но небо чистое, и похоже, что день будет солнечный.
— Что ж, это хорошо, я рад.
Пока слуга осторожно лил горячую воду в оцинкованную ванну, еще с вечера поставленную посреди спальни, Франц-Иосиф с деликатной помощью Хорнунга снял ночную рубашку; дрожа от холода, он вошел в ванну. Слуга, намочив и намылив губку, принялся сосредоточенно и важно растирать августейшее тело широкими, размеренными движениями, словно смывал со школьной доски.
Владыка австрийской империи был красивый рослый мужчина с крепкими плечами и узкими бедрами над стройными колоннами ног. Он очень гордился своей внешностью и никогда не упускал случая заглянуть в зеркало, а за столом любил рассматривать свое лицо в блестящих черенках ножей. Появляться по утрам голому перед слугами доставляло ему истинное удовольствие, которого он стыдился и в котором неохотно признавался сам себе, ибо чувство это было низменное, несовместимое с его высоким положением и возвышенной жизненной миссией. Он утешал себя, однако, тем, что и другой император, Александр, отнюдь не первый встречный, поскольку история недаром присвоила ему прозвище Великий, любил купаться обнаженным при своих солдатах. Правда, это было в древности, рассуждал далее Франц-Иосиф, и совсем другие были тогда условия, иной этикет, к тому же, если поразмыслить, то с точки зрения эстетики одно дело, когда Александр Великий на глазах у своих солдат бросался в волны какой-нибудь там македонской реки, и совсем другое, когда меня полощут в цинковой скорлупе. A propos, если Александра прозвали Великим, то какое прозвание уделит история мне, Францу-Иосифу? Об этом он часто размышлял в первое десятилетие своего длительного царствования; и хотя не блистал скромностью, не мог, однако, избавиться от мысли, что прилагательное «Великий» как-то не подходит к его имени.
— Ну-с, что нового? — обратился император к Хорнунгу, который между тем приготавливал свои цирюльничьи инструменты. — Что говорят по поводу Ломбардии и вообще?
— Да из табачных лавчонок, ваше величество, вдруг разом исчезли виргинские сигары, — ответил камердинер. — Будем сегодня поправлять прическу или только бриться?
— Только бриться. Но я спрашивал, что говорят о Ломбардии, а не о виргинских сигарах.
— Но я и позволил себе говорить о Ломбардии, ваше величество. Видите ли, виргинские сигары делают именно в Ломбардии, вот они и исчезли из продажи.
— Ах да, конечно, — сказал император. «Чего только не узнает монарх за мытьем», — подумал он, слегка задетый. Но вспомнил, что в потайном ящике библиотеки у него спрятано пятнадцать коробок этих «виргинских» сигар из Ломбардии, и это его немного успокоило. — А что говорят о министре Бахе?
— О, этому, ваше величество, все ужасно радуются.
— Чему? Тому, что он пал?
— Еще бы, все радуются тому, что ваше величество наконец соизволили прогнать этого негодяя и бросить его волкам.
— Как это — бросить волкам? Каким волкам?
— Это просто такое выражение, ваше величество, просто сравнение такое, если позволите так сказать, как вроде когда волки преследуют сани и кто-то должен пожертвовать собой и выброситься из саней, чтоб волки его растерзали и отстали на время.
— Странные у тебя сравнения, Хорнунг, — с обидой сказал император.
Не первый раз камердинер уязвлял его своей грубостью; но Франц-Иосиф был далек от того, чтобы велеть ему держать язык на привязи — Хорнунг был единственным отголоском венской улицы, долетавшим до его слуха, единственным связующим звеном между его величеством и народом.
Когда слуга вытер монарха, Хорнунг одел его в повседневную форму — Франц-Иосиф в приватной жизни всегда ходил в военном — и, усадив в кресло, засунув салфетку за ворот, начал намыливать щеки. При этом камердинер, нимало не смущаясь тучами, вызванными на чело властителя неуместной притчей о волках, мирно и беспечно рассказывал, что маленькая дочь эрцгерцога Альбрехта, Матильда, заболела корью и