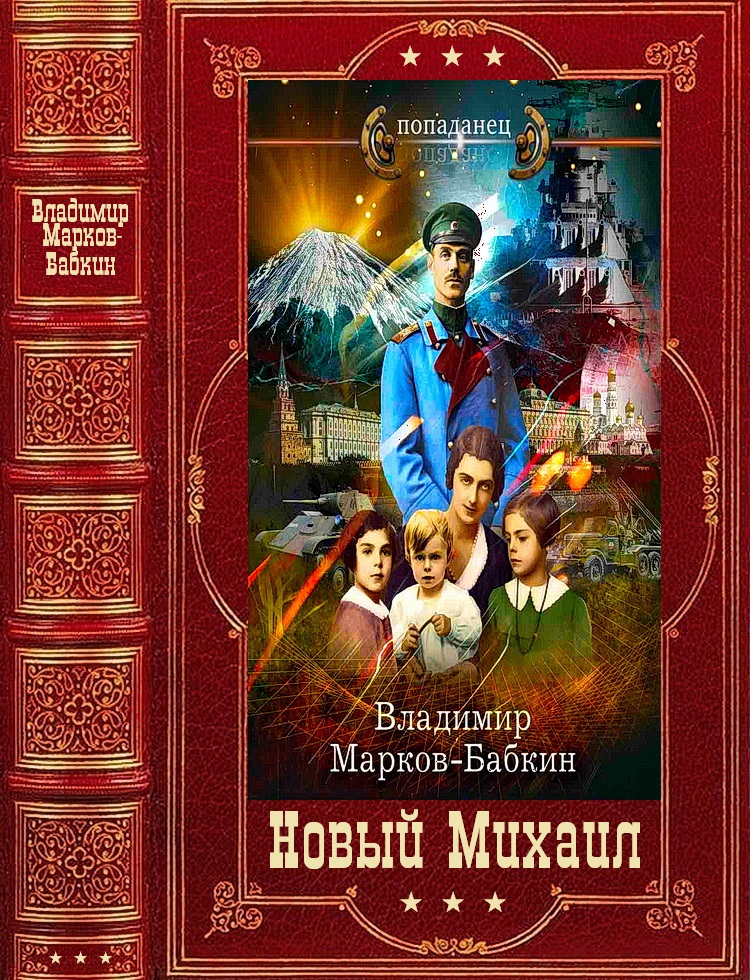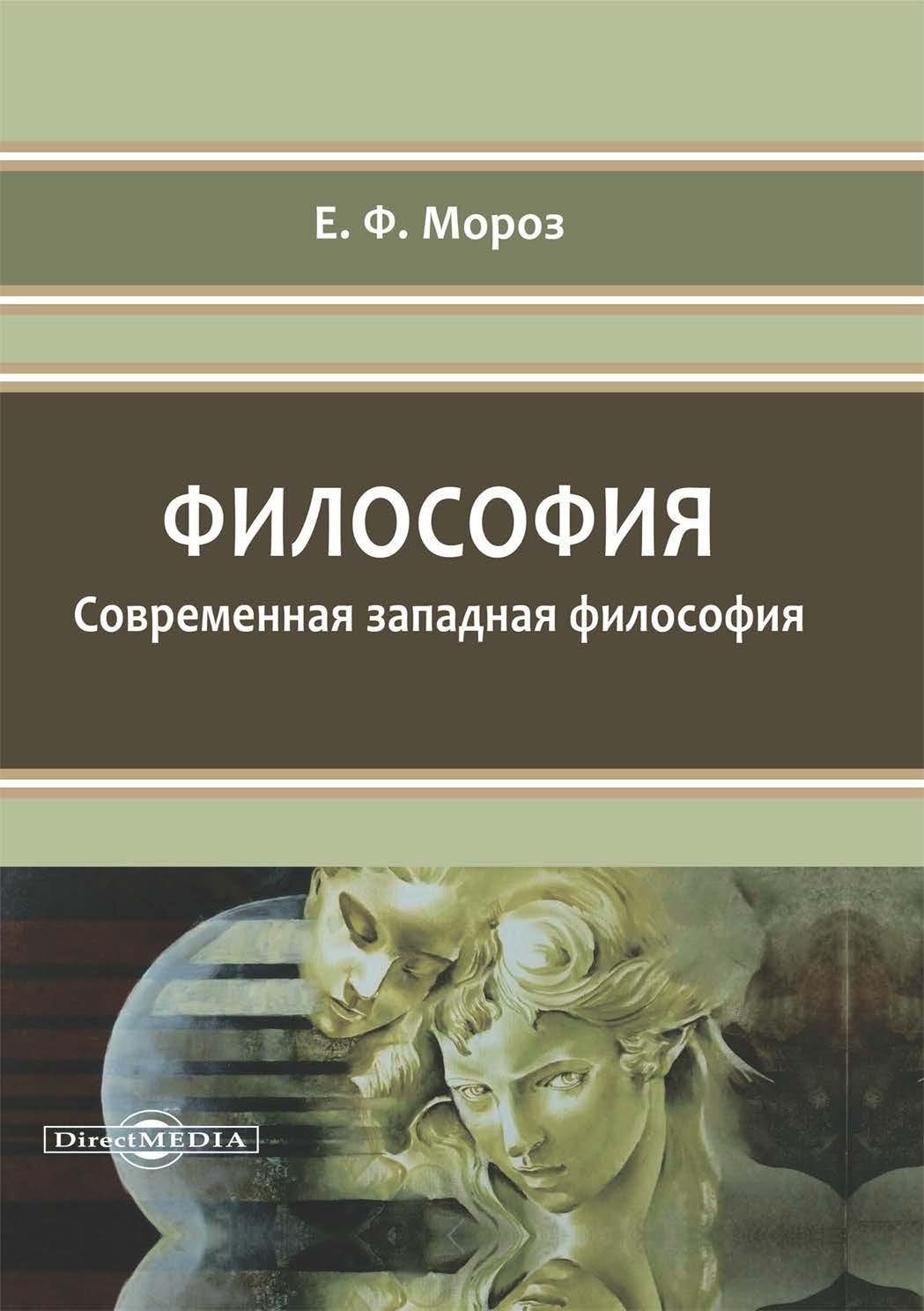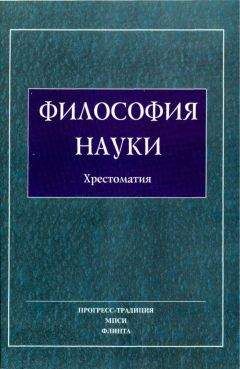употребляют как лучшее и наиболее утонченное орудие мести. Они не удовлетворяются тем, что просто презирают и осуждают своих ближних, они хотят, чтоб их осуждение было всеобщим и обязательным, т. е. чтоб вместе с ними все люди восстали на осужденного ими, чтоб даже собственная совесть осужденного была на их стороне. Только тогда они чувствуют себя вполне удовлетворенными и успокаиваются. Кроме нравственности, ничего в мире не может привести к столь блестящим результатам [72].
К такой нравственности ведет кабинетная философия, которая не ставит человека лицом к лицу с явлениями, но превращает явления в фантомы, в кабинетные призраки, с которыми ученый человек проделывает предсказуемые операции. Но даже кабинетный ученый может на миг выйти за пределы своей тюрьмы, своей предсказуемости, вдруг почувствовать тоску. Шестов обращается к образу лебедя, имея в виду и декадентскую тоску Людвига Баварского, построившего замок Нойшванштайн с лебединым озером, и образ «лебединой песни», предсмертной песни, готовности встретить смерть как последнее в ряду явлений:
Кабинетная философия осуждается – и совершенно справедливо. Кабинетный мыслитель обыкновенно занимается тем, что придумывает себе мнения решительно обо всем, что происходит в мире. Его интересуют «вопросы» о положении мирового рынка и о существовании мировой души, о беспроволочном телеграфе и о загробной жизни, о пещерном человеке и об идеальном совершенстве и т. д. без конца. Главная его задача – так подобрать свои суждения, чтоб в них не было внутреннего противоречия и чтоб они хоть с виду походили на истину. Эта работа, может быть, и не совсем лишенная интереса и тихой занимательности, все-таки, в конце концов, приводит к очень бедным результатам. Ведь похожие на истину суждения все-таки еще не истины; обыкновенно, они даже с истиной не имеют ничего общего. Затем, человек, берущийся обо всем говорить, вероятнее всего, ничего не знает. Так, лебедь умеет и летать, и ходить, и плавать – но плохо летает, плохо ходит и плохо плавает. Кабинетный ученый, ограниченный четырьмя стенами своей комнаты, ничего, кроме этих стен, не видит, но именно о стенах не хочет говорить: он им не придает значения, он их не чувствует. А между тем, если бы он их случайно почувствовал и заговорил об них, его речи приобрели бы неожиданный и огромный интерес. Это иногда и бывает, когда кабинет превращается в тюрьму. Те же четыре стены, но не думать о них нельзя. О чем бы человек ни вспомнил – о Гомере, о греко-персидских войнах, о будущем вечном мире, о прошлом геологическом перевороте, – всё будет ассоциироваться у него с четырьмя стенами. Ровность и однообразие кабинетного настроения сменятся у него великим пафосом невольного заключения. По-прежнему человек не видит мира и не сталкивается с ним, но он не дремлет, как прежде, и не грезятся ему серенькие мировоззрения – он бодрствует и живет всеми силами своей души. К такой философии стоит прислушаться. Но люди не отличаются наблюдательностью. Если они видят одиночество и четыре стены, они говорят: кабинет. По их мнению, жизнь возможна только на рынке, где много шума и осязаемого, наружного движения. Разве это так? На рынке, среди пестрой изменчивой толпы, часто люди всю свою жизнь спят сном праведников, а величайшая душевная работа происходит в абсолютном уединении [73].
Уединенного мыслителя люди пока не научились принимать всерьез. Они ждут от мыслителя общезначимой морали, ждут, что он в своем кабинете даст какие-то предсказуемые обыденные правила. Но общезначимая мораль для Шестова преступна: она заставляет смотреть на каждого человека как на преступника, которого надо контролировать, она приписывает людям намерения, которые им не принадлежат, и при этом не может распознать самого главного человеческого намерения – познать добро и зло совсем особым образом, в чем-то даже поспорив с Богом.
Тем самым эта мораль всех делает в чем-то преступными или покрывающими преступления – хотя и делает вид, что все проблемы решены и якобы всё уже в порядке. Люди тогда считают себя добрыми, но не замечают насилия рядом, в соседнем доме или квартире. А индивидуальное истинное добро должно бросить вызов насилию как стандарту, разрушить договоренности что-то замечать, а что-то в упор не видеть.
Шестов требует одного: перестать быть собой обыденным и стать собой необычным, непривычным себе. Непривычный себе человек висит над бездной вопросов и устремлен на огромной скорости к ответам, адресованным только ему.
Елена Шварц. 1960-е. © Наталья Королева
Лучше всего систему Шестова подытожила поэтесса Елена Шварц (1948–2010):
Шестов мне говорит: не верь
Рассудку лгущему, верь яме,
Из коей Господу воззвах,
Сочти Ему – в чем Он виновен перед нами.
Я с Господом в суд не пойду,
Хотя бы Он… Наоборот —
Из ямы черной я кричу,
Земля мне сыплет в рот.
Но ты кричи, стучи, кричи,
Не слыша гласа своего —
Услышит Он в глухой ночи —
Ты в яме сердца у Него.
(1994) [74]
Шестов яростнее всех обличал мнимое добро. Однако он ближе всех подошел к тому добру, которое не систематизируется, но без которого мир будет просто мнимо-гармоничным, примирившимся с рабством, а не действительно собравшимся и радикально изменившимся. В гармонии есть туманность иллюзии, тогда как мозаика, собирающаяся в единую картину, всегда имеет острые углы.
Глава 12
Маринетти, экстатический милитарист
Филиппо Томмазо Маринетти (1876–1944) – основатель футуризма и, вероятно, самый убежденный милитарист в истории литературы. Футуризм, конечно, возник как попытка вернуть Италию в большую историю. Маринетти негодовал, что все считают Италию курортом, а об итальянцах судят по операм Дж. Верди и туристическим репортажам – как о людях, которые умеют только петь, рисовать и сидеть в тени за долгим обедом. Нет, говорил он, Италия должна стать одной из мировых держав, на смену Италии как хранилищу искусств должна прийти Италия механизированная и авиационная.
Когда в 1914 году Маринетти приехал в Россию, он возмутился тем, что называющие себя футуристами используют только отдельные приемы его искусства, но темы у них другие. Почему на полотнах Ларионова и Гончаровой женщины с фруктами, а не пропеллеры и шестеренки? Почему никто из русских футуристов не идет воевать, а ужасается войне?
Филиппо Томмазо Маринетти. Ок. 1924
Он не понимал, что русские футуристы считали современную им войну неправедной,