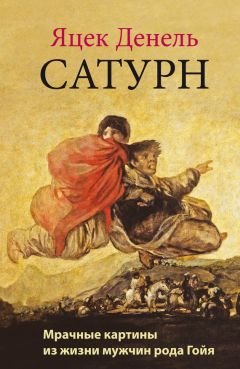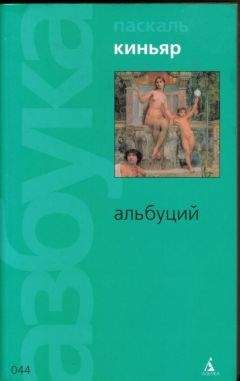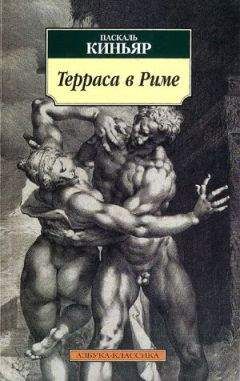В такие дни никто не приходит. Да и вообще никто не приходит, даже в рабочие дни, а если кто и придет, так на пороге Фелипе, уведомляет, мол, сеньора нет дома или же он занят, на том и конец; и я могу себе преспокойно писать дальше, разве что наведаются Мариано или Гумерсинда – тех следует уважить. Оторваться от стены, сойти с лестницы, отложить кисть, вытереть руки. И следить, чтоб не дотрагивались до невысохшей краски, лучше всего не пускать их в новое крыло – на первый этаж, или наверх. Но в выходные отваживать некого, решительно некого, будто все в тот день отдыхают от Хавьера Гойи, будто устроил он выходной для всего мира, а мир – для него. Тогда я могу бродить по пригоркам и полям, разглядывать ящериц и пожухлые травы. И камни. У половины камней есть свое лицо, люди, конечно, стесняются признаться, что видят эти лица, в детстве они их различали, а потом стали стыдиться. У остальных камней тоже есть лицо, только оно спрятано поглубже, как и у людей – не у всех же оно открыто. Поэтому я глазам своим не поверил, когда в воскресный день заявился этот человек, я уже прогулялся и отобедал и как раз вставал из-за стола, готовясь к сиесте.
Он вошел, запыхавшийся, даже не представился, только вытащил из подмышки большой сверток. «Вот эти письма!» – сказал он так, будто предъявил некое доказательство, будто вынес мне приговор или провозгласил непреложную истину. А потому я и спросил, что это за письма, какие письма, чьи письма. «Как это – какие? Как это – чьи? Вашего папаши к моему дядьке!» А сам воззрился на меня и глазками хлопает, хлоп-хлоп. Ибо провозгласил то, что, по его мнению, я обязан знать. «Простите, – говорю ему, вытирая руки салфеткой, – с кем имею честь?» А он снова, как герольд или как Тирана с театральных подмостков, возвещает: «Франсиско Сапатер-и-Гомес, племянник Мартина Сапатера!»
И впрямь, припоминаю, был такой Сапатер, умер лет тридцать назад, случалось, приезжал к нам, чтобы со стариком поохотиться. Отбывали они на несколько дней, направляясь то в одно место, то в другое, а постреляв, разъезжались по домам, отец – в Мадрид, а тот – в Сарагосу.
«Значится, вы своих не читали?» – спрашивает он и снова хлопает широко раскрытыми от удивления глазами. «Как это чего? Писем! От моего дядьки вашему папаше. Наверняка где-то лежат. Либо здесь, либо в Мадриде, потому как я знаю, что и в Мадриде у вас дом имеется, я уже там был, меня ваша жена сюда послала. У меня есть мои, то бишь от вашего отца, а у вас – свои, то бишь от моего дядьки. Если только он их не уничтожил. Мог уничтожить? Перед смертью-то? Может, уничтожил? А может, вы сами уничтожили? Потому как мои у меня есть. Только что с ними делать? Уничтожить?»
Уж больно непоседлив он был, тараторил без умолку, к тому же нескладно, моргал, брызгал слюной, трясся, как мечущаяся по сцене кукла в спектакле об отпущении грехов; я не мог оторвать от него глаз – то он выбрасывал руки вперед, то жался, то растопыривал пальцы, то сжимал их в кулак… Столько движений наш дом не видывал со дня свадьбы Мариано.
«Уничтожить? – переспрашиваю. – Во имя чего?» Но он явно не понимает, открывает рот и захлопывает, молотит воздух руками, ёжится, как от холода, и тут же распрямляется: «А вы что, не читали? Вот те раз! Так почитайте, устроим это меж собой, как мужчина с мужчиной!» И сверток с письмами разворачивает, ищет какое-то, видно, знает их отлично, не раз перечитывал. «Вот, извольте-с! И еще это! И это! Извольте-с!» – И он разложил их передо мной, вокруг тарелки и стакана, вокруг блюда с четвертушкой курицы, покрыв ими весь стол, за которым еще минуту назад я обедал. Пальцем показывал места. Одним из писем прикрыл каплю оливкового масла, которое теперь впитывалось в бумагу, разливаясь большим, идеально круглым пятном.
Говорит Франсиско
+ О Господи что за набалдашник такой агромный Боже Всемогущий! Ты наверно абрисовал его пером воображая себе Деву Служебницу, потому как если нарисовал от руки то ты прирожденный живописец и адному Богу известно, что заслуживает он чтоб его вставили в рамку, как святой заслуживает двух свечек. Жалко что его не покажеш людям чтоб каждый мог испробовать, а дамулька, какой он больше всего подойдет могла б его у себя попридержать. Да и какой портрет лучше всего писать, как не портрет моржового, ведь никто не будет атрицать что без него миру хана.
+ А я как раз дописал одежды и крест из самоцветов на портрете Коровы и еще сегодня принялся за твой. Tы поди смеялся читая мое последнее письмо, жалко что тебя здесь нет, вот уж бы мы с тобой дали волю языкам! А так спи спокойно, никто тебя не потревожит никто не будет точить балясы, потому как и у меня в последнее время языкоблудия кот наплакал, что меня удручает ибо я предпочитаю твое общество а не совать абалдуя в птичье гнездышко – удовольствие ниже среднего чего уж тут говорить
Палку тебе в глаз! Твой Франчо боготворит тебя без памяти.
+ Мой дорогой Мартин в письмах твоих – моя апора и если б не абязанности придворного живописца[103] взял бы я да и махнул к тебе потому как таскую по тебе не могу думать ни о ком другом и чую что надо нам уже навсегда быть вместе, вместе ахотиться пить шоколад и с радостью промотать все двадцать три реала каковые у меня в кармане вот было бы здорово (но какими ж бездельниками заделалисьбы мы!) и то сказать – все что мы можем зделать так это только сгорать от желания и когда ты пишеш мне в таком духе я падолгу хожу распаленный, разговариваю сам с собой как будто с тобой пока наконец не понимаю что это наваждение и Провидение против нас (мне также кажется, что двадцати трех реалов не хватило бы на наши благие намерения).
+ Дорогой Мартин как я рад что ты себя ублажаеш, этого-то я для тебя и хочу, тебе это хорошо известно, и ничего больше не скажу, ты и так хорошо понимаеш и то и много чего другого, так и расписывать незачем. Как бы мне хотелось взглянуть на твои угодья которые уже наверно зазеленели. Хорошо бы нам встретиться по воле Господа
+ С Богом, твой верный друг Франсиско де Гойя.
+ Сколько же страсти в твоем последнем письме! Видно что все это ты придумываешь на ходу, как и я в своем воображении живописца, и дальше пиши мне так! Пришли мне счет за мою сестрицу ты старый Дьявол, я его так долго жду что если б не знал, что ты прогневаешься уже давно бы вернул все, что она взяла у тебя с тех пор как ты начал ей присылать деньги и не был бы уже тебе должен, что меня асчастливило бы, ибо когда я об этом думаю не могу успокоиться и впадаю в такое гадкое настроение что избавляюсь от него только лишь когда рукою абслужу ширинку. Смеешься? Ха-ха попробуй, сам попробуй и сразу поймешь сколько от этого пользы, ты должен себе такое зделать потому как сейчас время плохих мыслей, речей и поступков, так по крайней мере говорила моя тетка Лоренца, которая меня таким вещам научила и должен признаться сперва я пришел в ужас и арабел ну а теперь? А теперь я не боюсь ни ведьм ни гномов ни духов ни злоумышленников ни великанов ни негодяев ни пожирателей трупов и так далее ни одного тела кроме человеческого, а перед твоим Гойя преклоняется.
+…И я жертвую тебе все с радостью с каковой приятель должен одаривать приятеля, оба мы знаем что во всем похожи друг на друга и Тот для кого нет ничего невозможного сделал нас атличными от астальных за что мы должны быть Ему благодарны.
+ С Богом мой дорогой друг которого я так хочу стиснуть в объятьях. Твой друг Толстячок Франчо.
+Если б я случайно не узнал что ты мой Сеньор уже почти на пути в Мадрид я бы написал досточтимому Сеньору с надлежащим почтением, но поскольку как только ты приедешь я лишу тебя этого почтения так почему бы не начать уже сейчас? Так что без всяких яких приказываю: поскольку тебе представляется возможность сослужить мне службу, доставь сие письмо в руки асобы которая является его адресатом и сообщи мне об этом, таким образом Сеньор абрадует меня а я акажу услугу приятелю который вознаграждает меня, как абычно, бесчисленными благодеяниями. Просто-напросто: раздолье абалдуя! Поспеши мой Сеньор и приезжай, нам ведь придется пустить в ход языки. Dixi[104].
+ Предписание: шишка, чресла, гузно; овечки в Карабаншель, Фарлете, студенческие пелерины, и откуда ни возьмись – каплун.
Говорит Хавьер
«И впрямь, – сказал я, – это письма отца. Его почерк. Он всегда ставил крестик в самом начале, так их учили в школе Святого Антония».
«Дядька тоже. Конечно, его. А чьи же еще? – Человечек придвинул к столу стул, уселся, и теперь вся его неугомонность, ранее находившая выход еще и в том, что он шаркал подошвами, подпрыгивал, переваливался с ноги на ногу, топтался на одном месте, ограничилась лишь верхней половиной тела, зато он принялся жестикулировать еще бойче: быстрыми, резкими движениями. – Дядька тоже. Те же крестики. Гляньте-ка сюда: негодник мой, а здесь: цыган сердца моего. Или вот: Твой и только твой елдык для свадебных пиршеств и для голубых балконов. А есть и похуже. Я вам все найду, я уже все просмотрел…»