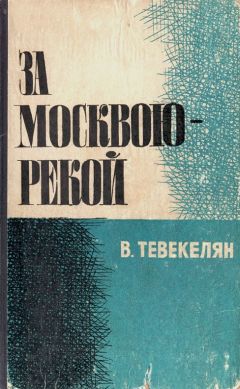— Навоевался, князь? — хрипло спросил по-татарски стары» казак.
— Аллах керим![8] — пробормотал посинелыми губами Келембет-Гамза.
— Керим, керим! — сказал Омелько. — Погоди, аспид, вот повезут тебя к Хмелю, там тебе будет керим. Побеседуешь с гетманом, дашь ответ ему, почему разбойничать на нашу землю явился!
— Вот чешет, дьявол, по-басурмански! — восхищенно воскликнул какой-то казак.
— Побыл бы ты у них на галере пять лет, прикованный к веслу, тоже чесал бы! — огрызнулся Омелько.
У кошевого Лыська мелькнула мысль: взять сейчас князька в Сечь — большой выкуп можно потребовать от хана… А то и так отпустить; тогда хан приятелем станет, а князь ширинский — побратимом…
Как бы угадав мысль кошевого, Гуляй-День приказал:
— Бери, Омелько, своего пленника, а завтра повезешь его в Кодак. Пускай ответ держит перед гетманом, зачем с войной пришел к нам.
Лысько только метнул злобный взгляд, отвернулся, пошел к своему кошу.
Окруженные казаками татары, две тысячи с лишком, двинулись в полон. За ними, сдерживая коней, скакали казаки. Впереди табуном гнали взятых у татар лошадей.
Федор Подопригора, скаля зубы, покачивался в седле, держа в руках княжеский бунчук и — на древке — голубой стяг с рогатым месяцем.
Спешившиеся казаки, укрепив попоны между лошадьми, везли на них раненых побратимов своих. Над похороненными казаками, которые полегли в бою, вырос в Кичкасской балке новый высокий курган.
В камышах осталось пятьсот порубанных татар.
Еще войско не скрылось за океаном, как над Кичкасской балкой черной тучей закружилось воронье.
— Что с пленниками будем делать? — спросил Чумак у Гуляй-Дня.
Гуляй-День поглядел испытующе на казака, проговорил:
— А променяем их на наших братьев и сестер, тех, что в неволе басурманской мучатся.
…Кошевой Лысько в тот же вечер, как воротились из похода, позвал к себе Гуляй-Дня. Была мысль: может, согласится с ним сорвиголова. «Ведь он из того же теста, что и все мы. Выпьем хорошенько, тогда скажу: «Кидай ты свою голытьбу — и айда ко мне в Сечь. Сделаю тебя есаулом, станешь заможным казаком. Татар и князя давай за выкуп отдадим. На беса с ними возиться?»
Лысько был уверен: Гуляй-День и раздумывать не станет. Кто же из казаков не мечтал сделаться есаулом на Сечи! Господи!
…Гуляй-День подозрительно слушал сладкие речи кошевого. Пил все, что наливал ему хозяин.
Слуга внес на серебряном блюде жареных цыплят, колбасу, от которой вкусно пахло чесноком… Такого Гуляй-День давно не едал.
Кошевой разливался соловьем. Перегнулся через стол, длинные усы свои уронил в тарелку с ухой. Не заметил даже этого, так был захвачен своими мыслями.
— Ты зря, казак, на меня огрызаешься. Нешто я не с дорогою душой к тебе? Ей-ей, я сразу увидал — ты рыцарь настоящий. Такие мне на Сечи и нужны. Скажу по правде: зачем тебе блох кормить в вонючих землянках с бродягами и гультяями?.. Кинь ты их, чертовой веры байстрюков! Оставайся у меня на Сечи. Хочешь, сделаю тебя есаулом? Панченка, мошенника и труса, выгоню, нехай идет ко всем чертям!
Гуляй-День цедил сквозь зубы горелку. Прятал глаза под нависшими бровями. Молчал. Кошевой еще больше распалился. Перешел к главному:
— За ширинского князя его родичи, да и сам хан, дадут большой выкуп. Мы с тобой в накладе не останемся. За такие деньги можно купить хорошую усадьбу на Украине. А если всех пленников отпустить на все четыре стороны, то ширинский князь еще нам набавит золотых… Я уже все это крепко обмозговал…
— Вижу, — сказал Гуляй-День, отодвигая от себя кварту. — Но плохо ты, кошевой, обмозговал…
— Что ты! Все досконально обдумал…
— Вижу! — гневно выкрикнул Гуляй-День.
Кошевой осекся, кинул на него испуганный взгляд.
— Казаки кровь проливали, жизни не щадили, а многие и света белого уже по увидят. Сирот да вдов для того разве оставили, чтобы мы этим торговали? Чтобы на их смерти да крови мы с тобой, пан кошевой, барыш Получали? А?
— Да ты спятил? — замахал руками кошевой. — Опомнись!
— Это ты от жадности спятил, — грозно проговорил Гуляй-День. — Ты и дружки твои. Кровь казацкая — пожива для вас, пауков! Иуду хочешь из меня сделать? Предателя? Есаульством купить меня задумал? Собака! Погоди, скажу гетману, отпишу Лаврипу Капусте, какие мысли в голове твоей поганой! — пригрозил Гуляй-День, вставая.
— Ты того… Ведь я это все в шутку, — торопливо говорил кошевой, не в силах даже подняться и кляня себя за глупую откровенность.
— Тебе шутки, а людям муки! Чем ты лучше иезуита шляхетского? — спросил Гуляй-День и, не дождавшись ответа от перетрусившего кошевого, который дрожащей рукой потянулся к пистолю, проговорил: — Ничем! Одной матери-волчицы выкормыши! Ты за пистоль не берись! Изрублю на куски — и не пикнешь…
Гуляй-День положил руку на эфес сабли. Не оглядываясь, пошел к выходу и уже на пороге бросил через плечо:
— Пленных прикажу отвести в Кодак, туда же и князя отправлю. А тебе, коли в живых хочешь остаться, совет — выкинь из головы предательство.
…Третьего гонца послал в Чигирин кошевой Леонтий Лысько. Но на этот раз верный казак повез не грамоту, а наказ — глаз на глаз передать генеральному писарю, милостивому пану Ивану Выговскому, совершенно секретные вести, какие доверить бумаге никак не можно.
Сечевому писарю Лысько шепнул — пустить слух среди казаков: мол, низовики и их атаманы хотели ширинского князя и пленников отпустить за великий выкуп, поделив его меж собой, но кошевой такое своеволие запретил, приказав пленников отправить в Кодак.
…Тщетно ожидали тем временем за Перекопом добрых вестей от ширинского князя.
Карач-мурза просидел неделю, начиная от святой пятницы, в Ильмень-Караване, пограничном улусе. Хан повелел дождаться добрых вестей и привезти их в Бахчисарай.
Карач-мурза ждал. Отсыпался, Валялся, лениво потягиваясь, на подушках в кибитке ильменского бея Менгли, слушая разные разности. В канун следующей пятницы Карач-мурза забеспокоился. Понял — радостных вестей не будет. А к вечеру чабан-татарин, возвратившийся из-под Казикермена, рассказал о поражении, какое понес ширинский князь.
У Карач-мурзы глаза полезли на лоб. Почесал под мышкой. Менгли-бей знал — это плохая примета. Это означало — Карач-мурза в затруднении.
Затруднение было немалое. Как предстать пред очи Ислам-Гирея с такой позорной вестью? У Карач-мурзы похолодели пальцы на ногах. Сунул ноги в камелек. Приказал позвать чабана. Старого татарина втолкнули в кибитку. Он упал в ноги мурзе, заголосил, точно ширинский князь был его кровным родичем, по меньшей мере братом.
Карач-мурза пнул чабана ногой в голову. Велел рассказать все по порядку. Чабан глядел на ноги мурзы, на расшитые золотом сафьяновые сапоги. Поднять глаза на лицо вельможного Карач-мурзы он не осмеливался.
Выслушав рассказ чабана, Карач-мурза приказал закладывать лошадей.
От ударов ветра содрогался шатер. Мигали свечи на низеньком столике.
Карач-мурза опустился на колени, закрыл лицо руками и начал творить намаз.
Наступила святая пятница.
Менгли-бей, по примеру мурзы, тоже стал на колени.
На минарете Караван-ильменской мечети заголосил муэдзин.
…Еще по дороге, кутаясь в овчину в глубине просторной, выстланной коврами повозки, Карач-мурза понял: поражение ширннской орды и пленение князя Келембет-Гамзы было черным знамением для Бахчисарая.
Карач-мурза теперь знал — этой весной орда на Украину не пойдет.
Между тем весть о поражении ширинской орды долетела уже до крепостей Казикермен, Джанкермен и Исламкермен.
На всякий случай в улусах за Перекопом затрубили в трубы и довбыши[9] ударили в котлы.
Больше года прошло, как Стах Лютек возвратился в свою Марковецкую гмину. Ничто не изменилось дома с той поры, как Стах ушел к Костке Напирскому. На родине его встретила та же покосившаяся хата, только еще глубже осела она своими серыми стенами в землю. Поседела его Ганка, а Марылъка стала выше ростом.
Светил сквозь дырявую крышу в почернелую от дыма хату день божий. Стах присматривался ко всему и ко всем, помалкивал. Залез на печь, укрылся с головой кобеняком и притворился, что спит, хотя и не смыкал глаз.
Из памяти, из сердца, из души никаким железом не выжечь того, что испытал, что видел и слышал Стах Лютек.
Нет уже Костки Напирского. Казнили его смертью. Поотсекали головы многим повстанцам.
Стаха Лютека тоже, по повелению коронного гетмана пана Потоцкого, били палками по спине и ниже, привязав его перед тем к позорному столбу на самой большой краковской площади, перед королевским замком Вавель.
После ста палок можно было душой в небо вознестись. Но, должно быть, душа у Стаха Лютека была тяжела на вес, и в небо она не вознеслась, и остался он, Стах Лютек, на земле с оскорбленным сердцем и иссеченной кожей на спине и ниже спины и долгое время после того мог только стоять или лежать на брюхе, а о том, чтобы сесть, и думать нечего было…