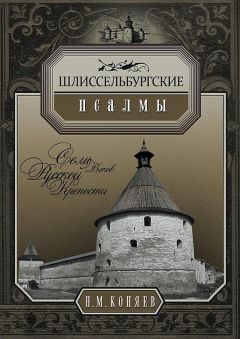Старик молча опустил огненные глаза, чтобы не показывать гостю свой яростный гнев.
— Мусульманин, — обратился он к сыну эмира, — каждый из нас имеет свой внятный голос, но о чем ты говоришь, мне не понятно.
— Поймешь! Мы вас сделаем мусульманами, научим настоящей вере. Я хочу знать: почему вы не ходите в наши мечети и не подчиняетесь нашим проповедникам?!
— Мусульманам подчиняются только слабые. А сильные — или умирают, или остаются огузами! — непримиримо и гордо ответил старик.
Сборщик бросил в пыль кусок баранины и, дрожа от злости, прохрипел:
— Раб, собака! Я плюю тебе в морду! Эй, люди!
Подбежала стража и мигом окружила споривших плотным кольцом. А сборщик податей, пользуясь моментом, ударил старика по лицу плетью. Сильно, с оттяжкой ударил трусливый змееныш. — Я получу с огузов свою долю! — кричал он, брызгая жирной слюной.
Люди слушали и молчали. А утром негодяя нашли мертвым.
О дальнейших событиях, которые произошли на выгоне, где сдавались овцы для султана, и о других делах остались такие записи: «Когда сборщик в свое время не вернулся назад и про это узнали во дворце, то никто не осмеливался доложить султану. Визирь, ответственный за налог, сам внес то, что следует, но эмир Кумач, правитель Балха, настоял и челядь рассказала султану о происшедшем.
— Кумач сказал султану: «Огузы собрали силу и находятся близко от моей области. Если государь даст мне шихне над ними, я усмирю их и отправлю на султанскую кухню 30 тысяч овец…» Султан дал согласие. Кумач послал огузам шихне и потребовал заплатить за убийство сына. Огузы не захотели подчиниться, ответив: «Мы личные подданные султана и не пойдем под власть никого другого». Тогда эмир собрал войско и направился на огузов, но огузы, принял боевой порядок, в страшном сражении одержали победу.
Разбив противника, огузские ханы направили султану Санджару письмо, в котором говорилось: «Мы, слуги, были постоянны государю и не нарушали его повеления. Когда Кумач хотел напасть на наши жилища, мы сражались по необходимости и ради детей и жен наших… Мы дадим 100 тысяч динар и одну тысячу тюркских рабов, лишь бы султан простил наш грех, а тот слуга, которого выдвинет султан, будет нам эмиром…»
Войска, подчиняясь приказу, двигались к Мерву. В одних отрядах были дружинники беков и ханов — плечистые богатыри, закованные в стальные доспехи, а в других — ополченцы на верблюдах и ишаках с заостренными палками и ножами.
— Да благословит небо победный путь! — крикнул пожилой дайханин всадникам.
— Пусть отравится солью тот, кто оторвал нас от полей, — ответили ему.
— Нам нужно это благословение, как собаке перец под хвостом! — ответил джигит на ишаке, с высоко засученными штанами из домотканной материи. — Только подошла моя очередь на воду мелек поливать, а бек погнал в поход.
— Эй, батыр, — перебил его рядом шагавший старик в растоптанных ичигах. — У беков своя молитва! Клянусь аллахом, не он меня учит идти убивать людей.
— Твоя правда, яшули. То бек воюет с эмиром, то эмир хочет взять награбленное у бека…
— Два мои брата погибли у стен Самарканда. А теперь, говорят, надо воевать и мне с огузами… Зачем? Ведь батман пшеницы стоит почти золотой динар!
* * *
Прохлада и величие в покоях султана. Краса и гордость земли, владыка Турана восседал на своем троне в одиноком раздумье. До роскошного трона из соседнего зала долетели голоса пирующих, звон посуды и смех красавиц. Но Санджара не тянуло сегодня к веселью. В который уж раз он вставал, ходил и садился, а ладонь потирала наморщенный лоб. Крупное, рябоватое лицо султана, как всегда, было властным, спокойным и сосредоточенным. Его волнение выдавала тоненькая жилка на шее, которая мелко вздрагивала и надувалась, передавая напряжение сердца.
Одна лишь дума тревожила сейчас властелина: «Огузы, огузы, огузы!» — стучала кровь в висках. Эта опасность висела над головой владыки, как снег в горах над путником. Казалось, пошевелись неосторожно, и лава обвалится, сорвется с кручи.
Санджар метнул острый и холодный взгляд по тронному залу. Здесь не было никого и, казалось, можно было довериться самому себе, спокойно порассуждать, соединить тревожные мысли об огузах и государстве. Султан Санджар по тем, казалось бы, незаметным случайным отдачам замечал, как день ото дня в руках его слабеет узда управления великим государством. Пока он не мог уловить главного, не мог сам себе признаться в неустойке, но тяжелые мрачные думы о великом султане все чаще посещали Санджара и ввергали в уныние и страх. Уже не было того большого сельджукидского государства, которое он получил в наследство от своего славного отца Мелик-шаха. Не было в руках и той всепобеждающей армии, которой руководил дед Тогрул-бек. Разве мог бы сейчас Санджар мечтать о походе на Константинополь, который когда-то лежал у копыт прославленного Алп-Арслана! Но прочь отгонял от себя эти мысли Санджар. Он не хотел и слышать о приближающейся слабости или разладе в государстве. Победа над Самаркандом показала, что он еще может держать в руках своих подчиненных. И не этим бедным родственникам — огузам, вставать на его пути.
— Эй, кто там? — позвал Санджар.
Из-за шелковой драпировки появились два телохранителя.
— Главного визиря!
Не прошло и минуты, как приказ был выполнен. Главный советник поднялся к трону, поцеловал пол у ног султана и приподнялся, согнув спину и преклонив голову. А султан Санджар как будто только проснулся, на рябом лице вспыхнул черный огонь глаз.
— Мне хотелось рассказать одну историю о нашем отце, — султан отпил из кубка вина и остатки подал визирю. — Однажды он ехал с Низам аль-Мульком на охоту. В одном из ущелий повелитель спросил своего наставника: чего бы тот в ту минуту хотел съесть?… И Низам аль-Мульк ответил: «Я с удовольствием бы проглотил яйцо всмятку, мой повелитель!» И вот три года спустя они снова проезжали по этому ущелью, и Мелик-шах опять спросил Низам ал-Мулька: «А с чем бы, мой визирь, ты хотел проглотить эти яйца?» «С солью», — ответил Низам аль-Мульк.
— О, если мои слова не оскорбят ответом ваш слух, величайший, — подхватил визирь, — я только добавлю к словам великого визиря: соль… нынешнего времени — острые клинки твоих воинов, которые сотрут с лица земли презренных огузов, происхождение которых не определят сто и один звездочет.
Из соседнего зала мягкой и плавной волной донеслись звуки лютни. Санджар прошелся по ковру и гордо замер у окна.
— Ты близок к истине, почтенный. Всякого, кто посмеет посягнуть на мою власть, я повешу вниз головой, за ребро, как ободранного барана. Памятью моих отцов я заткну глотку каждому, кто посмеет путать мои планы. Прикажи заготовить фирманы в Серахс и Балх. Пусть сушат мясо, готовят муку и ячмень… Скоро мы удостоим вниманием правителей этих благодатных оазисов. Клянусь аллахом, все негодяи, думающие нарушить цельность и могущество моего государства, познают холодок смерти. Пусть каждый из этих в боевом снаряжении выступит против огузов, моих единоплеменников, которым мы объявляем священную войну!.. Начинается великий поход.
Главный визирь вдруг заметил, как рука султана с дрожью сжала рукоятку кинжала. И в его когда-то властном лице проглянула неуверенность, сомнение… Не было в султане той силы и мощи, которая украсила историю государства победами на полях Персии, Мидии и Сирии; той непобедимости, которая пугала многих великих полководцев, создав легендарную историю Хорасана. Санджар долго молился, то и дело опускаясь на колени. На побледневшем, затканном гневом лице, незримо прорезались новые морщины.
— Воля неба всемогуща… Но ты видишь, аллах, сколько мне пришлось приложить стараний, чтобы сохранить государство от презренных газневидов, гурийцев, хорезмийцев.
Почти третью часть своей жизни я провел в походах. Разве не эта рука наводила страх на врагов и разила их без промаха! Так за что же ты даешь мне новые наказания?.. За что я должен принять на душу неслыханный грех — поднять руку на родственный мне народ?.. Разве ты не видишь, что сила, данная тобою, теряется? Окружающих меня раздирает зависть и жадность. Золото ставится выше чести… жизни!.. Прошу, аллах, измени путь и судьбу моего государства. Сделай так, чтобы мне не пришлось поднимать меч на близких людей к моему трону. Поверни коней всех подлецов, жаждущих наживы и крови, в другую сторону. Измени расположение звезд на небе, о аллах! — и повелитель грозного Мерва опустился на колени; тихо шепча молитвы, восхваляющие и призывающие силу неба.
Наступили тревожные времена. Это было начало XII века и распри в Хорасане все больше подрывали влияние этого государства на подвластные эмираты. При дворце сельджукидов образовались две группы приближенных. Одна из них шла корнями от персидских представителей, другая вела свою родословную от огузских племен.