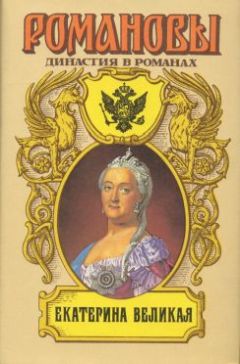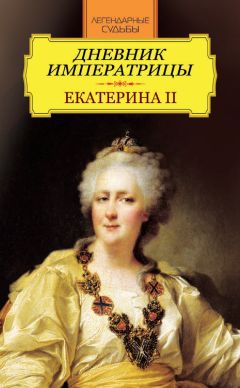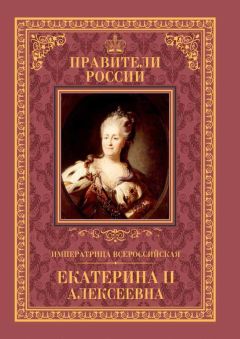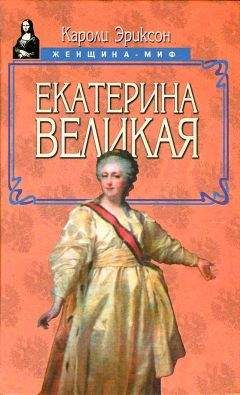Побеждённый Фридрих торжествовал победу!
Об измене отечеству своего царя-самодержца заговорили теперь не только солдаты – заговорила вся Россия.
– Пруссаки уже в Опочке! – говорил Петербург. – Царь пустил пруссаков в Россию!
– Пётр продал пруссакам русских солдат!
Академик Михайло Васильевич Ломоносов кипел негодованием:
О стыд, о странный поворот!
Видал ли кто из в свет рождённых,
Чтоб победителей народ
Отдался в руки побеждённых?
И вставал по всей стране гнев, гнев глубокий, народный, до времени тайно таимый, затяжной, словно низовой лесной пожар.
Пётр Третий сам не понимал, что творил. И на хитрые упреждения короля Прусского о возможном восстании он отвечал так:
«Что же касается русских и того, что русские будто бы меня не любят, то я скажу, что они давно бы навредили мне, если бы это было так. Ведь меня охраняет только Господь Бог, я всегда хожу один по улицам – это вам подтвердит ваш Гольц. О, кто знает, как обращаться с русскими, кто знает, как подойти к ним, тот от них всегда безопасен!»
В мае, при большом стечении народа, с Адмиралтейской верфи были торжественно спущены два новых 74-пушечных корабля русского военного флота:
«Король Фридрих» и
«Принц Жорж».
Зимний дворец в апреле ещё не был окончательно отделан, хотя работы шли день и ночь, почему празднование заключения мира пришлось отложить до мая, когда наконец был готов ряд огромных зал с видом на Неву.
Празднование мира началось 10 мая… Утром в Казанском соборе отслужили обедню, потом молебен. Был парад войскам на Марсовом поле, грохотали пушки с верхов Петропавловской крепости, на зеркально-синей Неве стояли корабли, галеры, яхты, трепетали разноцветные флаги… На площади против дворца народу было выставлено угощение – бочки с пивом и вином, жареные быки… Народ толпился, однако особого веселья не обнаруживал… Крестьяне в армяках, в валяных шляпах, горожане в немецком платье смотрели в цельные стёкла нового Зимнего дворца, где на раскрытых балконах мелькали цветные кафтаны, платья, откуда неслась музыка… А когда с крыши дворца на ту сторону Невы в Петропавловскую крепость сигналили флагом, крепость отвечала громовым дымным салютом на каждый тост за царским столом…
Всех веселей, всех пьяней был сам император Пётр Третий. Бледный, в синем прусском мундире, с блуждающим взором, он вдруг во полупиру поднялся, вытянулся во фрунт и, обратясь к портрету короля Прусского, висевшему как всегда напротив его кресла, поднял хрустальный бокал и возгласил здравицу:
– Королю Прусскому, моему повелителю, гению и надежде человечества – ура!
– Ура! – подхватила пышная пьяная застольщина. – Виват! Ура!
Люди кричали, пряча взгляды, не глядя друг на друга, никто протестовать не смел. Крепостные пушки из-за реки били так, что все стёкла дрожали.
Барон Гольц с надменной улыбкой осмотрел залу и вдруг увидел: сидевшая в отдалении от супруга императрица Екатерина при тосте одна не встала с места. Она опустила глаза на скатерть, мяла в руке розовый цветок. Не подняла бокала.
Перегнувшись через спинку высокого кресла, Гудович зашептал в ухо царю:
– Она, она-то не пьёт!
Пётр пошарил вокруг бешеными глазами, увидал жену. В скромном, полутраурном платье Фике сидела недвижно, словно мраморная статуя.
В зале наступило молчание… Все пышные персоны, все дамы, вся придворная челядь обратили свои взоры на этот разыгрывающийся между мужем и женой молчаливый, тихий, но смертельный бой: бой за трон.
– Почему же вы не пьёте здоровье его величества? – по-французски завизжал Пётр, не выдержав первый молчания. – Как вы смеете не пить?
Екатерина не отвечала. Опустив голову, скорбная, подавленная, она казалась печальной матерью, тоскующей о потерянных детях… Перед пьяной застольщиной встал образ покойной царицы Елизаветы Петровны.
Ответа не было.
– Дура! – закричал тогда император по-русски и так, что его истошный визг зазвенел под розовым плафоном потолка, – Дура! Я вам покажу, что значит быть верным!
Пьяно покачиваясь и спотыкаясь, император сбежал с возвышения, на котором стояло его кресло, обежал кругом длинный стол и прямо перед портретом прусского короля рухнул на колени. Воздев вверх обе руки, он вопил:
– Государь мой! Ты видишь – я верен тебе… Клянусь, со мной верна тебе и вся моя Россия!
От неловкости никто не поднимал головы, не смел взглянуть на пьяного высочайшего шута, однако все осторожно следили за императрицей.
Она по-прежнему молчала, опустив голову, уронив руки на колени, и крупные слёзы блестели на полузакрытых глазах…
Пир продолжался. Наступил вечер. В окна дворца с Невы уже лился закатный свет, мешался со светом свеч в бесчисленных хрустальных люстрах и бра, на судах сияла иллюминация, играла на лодках роговая музыка, пели песенники… На площади продолжала стоять молчаливая толпа, не отрываясь смотрела в освещённые окна, откуда неслась музыка, где мелькали тени танцующих.
Было ещё не вполне темно, как над Невой вспыхнул фейерверк. Стучали, гремели бураки и шутихи, крутились на плотах золотые колёса, пылали разноцветные фонтаны огня, ракеты, римские свечи, бесчисленные как звёзды, летели в вечернее небо. Всё это, отражаясь, двоилось в зеркале Невы. Только средина огромного огненного фронта оставалась тёмной… Но вот вспыхнула и она: две огромные, сияющие величественные женщины – Россия и Пруссия – протянули друг другу объятия, от них в тёмно-серой Неве бежали цветные огненные змеи. Толпа стояла потрясённая искусством хитрых немцев.
В зале все были так прикованы к окнам волшебным фейерверком, что никто не заметил, как императрица Екатерина удалилась из залы. Она уехала в свой старый дворец, сидела в своей уборной, ждала, ждала…
Верный её камер-лакей Шкурин[56] как всегда вошёл без стука.
– Он пришёл?
– Так точно, ваше величество! Изволили прибыть!
Фике казалось, что она никого никогда так ещё не любила, как этого человека. Спеша к себе в кабинет по тёмным пустым покоям, коридорам дворца, задыхаясь от волнения, она чувствовала всем своим существом, что ни граф Салтыков, «прекрасный, как день», отец её сына, наследника престола Павла Петровича, ни граф Станислав Понятовский, ослепительно красивый, молодой, блестящий и элегантный поляк, отец её дочери Анны Петровны, не были так близки, так желанны ей, как этот могучий человек. А главное – не были так н у ж н ы ей.
Фике из уборной вбежала в угловой свой кабинет, там горели две свечи. Никого! Но вот замяукала кошка, Екатерина ответила тем же, послышался шорох, скрытая в шпалерах дверь распахнулась, и вошёл он – Григорий Орлов.
Весёлый, статный, могучий, он опустился на колено, поцеловал руку императрицы. А она схватила его голову и целовала, целовала без конца, словно хотела излить в него всю свою наболевшую душу…
– Гришенька! Родной, – шептала она. – Желанный мой! Как же я измучилась… Долго ли ещё нам терпеть этого монстра?
Орлов вскочил, подхватил её на руки. Она небольшая, но тяжёлая. А такая уж дорогая, что и сказать нельзя. Положил бережно на канапе.
– Катенька! Лапушка! Сердце! Ангел! Всё скоро готово. Как только поедет монстр в Данию воевать – всё сделаем.
Через несколько минут Орлов уже успокоенным голосом, такой красивый в малиновом кафтане, с золотой шпагой, сияя смелым решительным взглядом, докладывал:
– Гвардия вся кипит. «Он» не зовёт нас иначе, как янычарами. Потому – боится! Опасные люди – гвардейское дворянство… Хочет распустить полки Преображенский, Измайловский, Семёновский… Вчерась мы славно понтировали у Бековича, играли до свету. Кто играет, а кто шепчется. Сказывали, что тебя, матушку, он хочет в монастырь упрятать… Это тебя-то, родная, – и в монастырь!.. Ха-ха! Нет, говорят, скорей мы его упрячем туда, куда ворон костей не занашивал! Да всё ещё толкуют, почему-де о тебе, матушка, да о наследнике в манифесте ни слова не сказано.
Фике смотрит на Григория, прищурив длинные ресницы. Улыбается. Ах ты, русская силушка! Горячка какая! Орёл! Недаром этот её любовник да первый заговорщик – внук стрельца Григория Орла, казнённого Петром.
– Отойди, государь, от плахи, – сказал царю стрелец, – кафтан бы тебе кровью не обрызнуть!
Пожаловал тогда его Пётр: взял заботу о его детях – Орловых – на себя.
И внук Орлов тоже герой. Три раза под Цорндорфом ранен, а устоял. Строя не покинул. И он тоже свою думу думает, а про себя держит. Их три брата – он, Григорий, Алексей – могучий такой, что медведя в одиночку берёт, да Фёдор – гвардию подымают. За кого? За неё, за неё – свет Катеринушку, которая ну как есть матушка Елизавета Петровна, как две капли воды. Недаром так она по старой царице и убивалась. Недаром доселе траура снять не хочет. Немка, она ну как есть ещё лучше, чем всякая русская, ей-Богу!