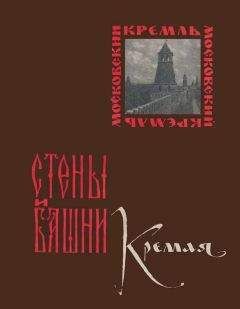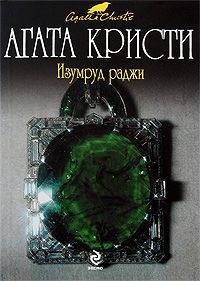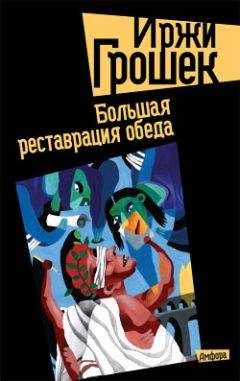— Зелье то дал мне твой шурин, великий государь… а отколь взял — не ведаю…
Косматая голова поднялась с полу.
— Собака! — рявкнул князь Черкасский, сверкнув глазами, и плюнул в лицо Грязному.
А тот продолжал причитать:
— А дал я то зелье девке, сенной боярышне… обвенчаться обещал…
— Откуда взял зелье, отвечай? — спросил царь, наклоняясь к князю. Лукьяныч, крепкий допрос надобен.
С трудом поднялся и почти сел князь Черкасский и прямо глянул в глаза царю.
— А извел я ее тем самым зельем, — медленно, с расстановкою сказал он своим грубым, похожим на рычание голосом, — извел я ее тем самым зельем, которое ты мне давал, чтобы я в кубок сыпал, когда от тебя были чаши, жалованные боярам московским; не раз ведь давал, аль запамятовал? Много того зелья прошло через мои руки — остатки для тебя пригодились… А извел я твою царицу тем зельем, каким извел ты мою сестру, чтобы на новой жене жениться, душегубец, кровопийца, палач.
— Лукьяныч! Скорее! Лукьяныч! — кричал царь. — Лютые муки ему… чтоб не было лютее… Да когда же я… Марью… жену мою… лютые муки, Лукьяныч!
Ярче вспыхнуло пламя в печи. Из соседнего подземелья опять прорвались крики допрашиваемой под пыткою женщины.
И вдруг она вырвалась из рук палачей, бросилась вперед, ворвалась в подземелье князя Черкасского, упала к ногам царя и вопила, обливаясь слезами:
— Государь великий… вели слово молвить… Не виновен Гриша… сам себя оболгал… я… я… одна виноватая… наговаривал на себя… меня хотел выгородить… я доставала зелье у бабки-прачки, а она то зелье от крыс держала, я, государь…
Царь устало махнул рукою, занятый пыткой Грязного и Черкасского.
— В пруд девку, карасям на корм, — крикнул он и отвернулся.
Руки палачей подхватили девушку и поволокли. Она билась, и длинная коса металась, как змея, и колотилась о каменный пол, и над дугами бровей рассыпались каштановые кудри…
Палачи притащили девушку к пруду в мешке, похожем на саван. Плескалась черная вода о берег; моросил дождь; черные тучи толпились грядами на небе. От пруда пахло тиною. В сером длинном саване лежала спокойно женщина. Она знала, что ни разу не увидит больше ни неба, ни солнца, но у нее не было страха в сердце: в нем жила нелепая вера, что умирает она за дорогого человека, который хотел на ней жениться, который любил ее больше жизни… И надеялась она, что в аду или в раю, а будут они скоро вместе.
— Ну, красавица, с Богом! — крикнул грубый голос, и неподвижный сверток в саване полетел в пропасть.
Черная вода пруда сомкнулась над головою сенной боярышни Дуни…
А царь, узнав о казни девушки, рассвирепел, зачем поторопились исполнить его приказ: он хотел под пыткою расспросить Дуню про страшное зелье…
Казнили и князя Черкасского, казнили и Григория Грязного, а попутно казнили еще немало невинных людей. Бомелиус лез из кожи, чтобы вылечить царицу, а ей становилось все хуже. И всем было ясно, что дни ее сочтены.
Высоко, на взбитых алых подушках с откинутым занавесом лежала Марфа в опочивальне. Царь сидел неподалеку, не спуская глаз с кровати.
В дверях и невдалеке от постели толпились боярыни, постельницы и сенные девушки с перепуганными лицами; они еще не забыли лютой казни всесильной Дуняши.
Царь не спускал глаз с бледного воскового лица, которое казалось еще бледнее на алых подушках, и думал о том, что и в скорби недуга прекрасно лицо Марфы, как у святой. Порою открывались ее глаза и блестели, как синие звезды, но блестели они странным блеском и как будто странным укором. А он, царь из царей, не мог спасти ее…
Тяжело дышала Марфа, и по щекам ее медленно катились тихие слезы.
Царь с тоскою посмотрел на дверь.
— Немец-знахарь здесь, государь великий, — прошептала, подходя на цыпочках, боярыня Бельская.
Царь в волнении встал.
— Пусть войдет, да скорее.
И опять в двери с ужимками проскользнула черная фигура заморского лекаря и остановилась почтительно у порога.
Мрачным пятном вырисовывалась фигура Бомелиуса на алом фоне стен.
— Полно кланяться, заморская обезьяна, — сказал нетерпеливо царь. Что станешь делать? Что ты давал уже царице?
Бомелиус закланялся снова:
— От порчи много средств, государь великий… Бывают злые люди, что найдут где чужие волосы, так с теми волосами сучат свечки и жгут; про ту порчу…
— Что ты давал царице?
— Давал я государыне царице заячий мозг, да траву сабур, да олений рог, да осиновые шишки…
— А еще что давал?
— А пуще всего давал камень безуй[39] в уста, чтобы сосала государыня царица от порчи…
— Не помогло. Что еще давал?
— А давал я еще песок с роговым отливом, а безуй брал тот, что родится в сердце у оленя…
— Не помогло, не помогло. Вот испробуй, что вчера сказывал.
Царь указал лекарю на лежавший возле него на столике скипетр. Этому скипетру из рога единорога приписывали чудодейственную силу, и царь велел его принести в опочивальню царицы. Рядом стоял ящичек, в который слуги насажали по приказанию царя пауков.
Лекарь осторожно взял в руки драгоценный скипетр и начертил им на столе круг, потом открыл крышечку ящика и стремительно вытряс оттуда пауков.
Царь, а за ним и все находившиеся в комнате смотрели на волшебный круг, затаив дыхание. Стало так тихо, что слышно было, как шуршит шелк кафтана царского от его тяжелых вздохов.
Обезумевшие пауки сначала заметались, потом стремительно бросились врассыпную и исчезли под узорною крышкою стола.
Царь поднялся, бледнее смерти.
— Уйди, — сказал он тихо и грозно, — пауки разбежались… Худой знак… Ее не спасет и инрог…
И для лекаря Бомелиуса было ясно, что ее уже ничто не спасет. Смущенный и жалкий, трепеща за свою шкуру, он с поклонами пятился к дверям.
Страшен был царь Иван в эту минуту. Он стоял посреди комнаты, бледный, сдвинув брови, и машинально все еще следил за последним пауком, который, почувствовав свободу, бежал по полавочнику, чтобы скрыться где-нибудь в углу. Царь повернулся к женщинам и махнул им рукою. Они все вышли…
Он подошел к постели.
— Марфа, юница моя… — сказал он вдруг, склоняясь к ней с непривычной нежностью, — юница моя… пошто покидаешь меня? Положил я всещедрое Божье упование, сосватав тебя, либо ты исцелишься… слышишь, сердце мое исходит скорбью… немало людишек поплатилось за тебя головою.
Бледные веки поднялись; синие звезды глянули на царя с ужасом.
— Слышишь ли ты меня, откликнись… слышишь ли?
Дрогнули алые губы:
— Уйди… Власьевна… страшно мне… Пошто у него… пошто у него руки в крови?
Царь с изумлением посмотрел на свои руки, но не увидел ни одного красного пятна. Он наклонился к царице, тихо, с нежностью прижался губами к ее бледному влажному лбу.
На лице Марфы был ужас; она заметалась, напрягая последние силы:
— Уйди… уйди… ты весь в крови… я… я боюсь тебя… ты…
Голова ее билась в подушках. Царь отшатнулся; его охватила смертельная скорбь.
Он чувствовал, что любил ее, как только способно было любить его ожесточенное сердце. Вот он женился на ней, несмотря на порчу, ничего не жалел, чтобы спасти ее; вот он пришел сюда, полный безумной тоски и страдания, а она… Он узнал этот взгляд предсмертной муки и ненависти; так, умирая, смотрели на него в застенке и на площади приговоренные к казни… И, сраженный любовью и жалостью к этой ненавидевшей его женщине, он прошептал, простирая к ней руки:
— Юница… желанная моя… Богом данная… голубица моя кроткая… Скажи хоть словечко ласковое… душа изныла…
Еще сильнее загорелись синие звезды, и грозен был их свет. Царица глотала воздух, задыхаясь; что-то клокотало у нее в груди. Держась судорожно за край постели, комкая простыню, приподнялась она и бросила ему в лицо страшным шепотом:
— Ты… ты… кровопийца… ты… ты… душегуб… зверь лютый… проклятый…
То были ее последние слова. Руки, крепко сжимавшие простыню, разжались; голова бессильно повисла на плече и тихо скатилась на подушку; тело вытянулось…
Лал — драгоценный камень красного цвета.
Домрачей — музыкант.
Ульяна — жена брата Ивана IV Юрия Васильевича.
Кика — женский головной убор.
Табуг-салам — здраствуй.
Улусник — подданный.
Сирин — сова.
Пещиться — заботиться.