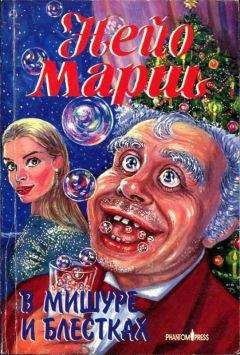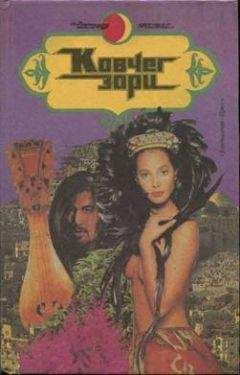Ну-с, пять общих понятий о сравнении величин.
1. "Равные одному и тому же равны между собою…"
— Милый, не пойдешь ли со мной… подышать свежим воздухом в саду?
Поднял Омар туманный взгляд: перед ним в ярком свете — золотисто-смуглое женское лицо, все в темных точках мелких родинок. Точно румяный сдобный хлеб, густо посыпанный анисовым семенем.
Опустившись на колени, служанка делала вид, что прибирает что-то вокруг столика. В длинных карих глазах — задумчивая боль. Призывно лизнула дрожащую верхнюю губу, нежно шепнула:
— Пойдем?
— Сейчас, — ответил Омар как во сне. Ткнул пальцем в Эвклидову книгу. — Вот, закончу сейчас, и пойдем. Подожди немного. Сейчас…
Не стала ждать. Встряхнула головой, ушла. Обиделась? Похоже.
"2. Если к равным прибавить равные, то и целые будут равны…"
Растекаются талой мутной водой мысли, совсем недавно — ясные, четкие.
"З. Если из равных вычесть равные, то и остатки будут равны…"
4. Совмещающиеся друг с другом равны между собою.
5. Целое больше части."
Как будто все бесспорно. Однако… до чего же бескрыла эта геометрия! Она боится взлета, неожиданной кривизны, непредусмотренного движения. В ней все настолько иссушающе правильно, что нет места поиску, дерзкой работе ума. Вывиха нет, дикого озарения! Это геометрия циркуля и линейки. А с их помощью, как убедился Омар на своих уравнениях, решишь не всякую задачу. Ведь пространство не может состоять из одних лишь дохлых плоскостей.
Уж так ли непререкаем Эвклид? Омар прочертил мысленно четкую линию к немыслимо далекой синей Веге. И рядом с нею — другую. И провел их далее, в бесконечность. Так неужели в этой жуткой бездне, живущей по никому еще неведомым законам, вторая линия так и будет покорно следовать за первой, не смея ни отойти от нее, ни приблизиться к ней? Несмотря на чудовищные провалы, смещения и завихрения в космических пространствах?
***
В излучине реки, текущей мимо Исфахана к юго-востоку, у дороги в Шираз, из глубин земли выдается обширный пологий купол.
Исфазари — восхищенно:
— Камень сплошной! Цельная глыба. Подходит?
— Подходит, — вздохнул Омар. — Но видишь, на ней — селение. — Куча серых лачуг, больше похожих на груду развалившихся надгробных строений, чем на человеческое жилье. Ни деревца между ними, ни кустика. Где-то там, среди голых камней, жалостно, тонко и беспрестанно плачет, и плачет, и плачет больное дитя. Гиблое место. — Найдите старосту.
Староста, под стать селению, весь серый, пыльный и облезлый, повалился Омару в ноги.
— Встаньте, почтенный! Чем вы здесь занимаетесь, как живете?
— Корзины плетем, циновки. Как живем? Коротаем век, кто как может. Лоза и камыш тут скудно растут, приходится ездить далеко на озеро, куда эта речка впадает. Да и там их уже негусто.
— А не хотелось бы вам, всем селением, сменить ремесло?
— На какое, сударь?
— Ну, скажем, камень ломать, тесать. Его-то у вас, я вижу, тут много.
— Много, сударь! Куда как много. От него, проклятого, все наши беды. Ломать его да тесать — пытались. Не выходит. Нечем, сударь! Нету железа, орудий нету нужных. И навыка нету.
— А если дадут?
— Кто? Мы народ пропащий.
— Тут будет стройка. Все мужчины селения смогут на ней работать. За хорошую еду — и малость денег.
— Дай бог! Мы бы рады. Но…
— Что?
— В икту нас берут, наше бедное Бойре. Иктадар уже… осчастливил нас… высоким своим посещением. Важный он человек, м-да, строгий.
— Кто?
— Некий бей, как его… Рысбек.
***
…Напрасно визирь Низам аль-Мульк битый час толковал толстяку о высшей пользе — пользе государства, обещал дать взамен три других богатых селения. Нет! Рысбек знать не хочет ни о чьей высшей пользе, кроме своей. И других селений в икту ему не давайте — это обман, их завтра тоже отберут.
Просто великий визирь за что-то, — за что, бог весть, по чьему-то злому наущению, — невзлюбил беднягу Рысбека и хочет сжить его со свету. Хорошо! Правоверному не нужно благ земных. Старый воин, верный султану, навсегда откажется от них и удалится в общину аскетов-суфиев.
Пусть при царе остаются безбожные звездочеты.
— Пойми, обсерватория…
— Никогда не пойму! Славный тюркский народ без всяких дурацких обсерваторий разгромил сто государств на земле. Средь них — и ваше, — напомнил он грубо. — Наш доход — военный поход. С чего это вдруг теперь нам взбрело строить бесовский Звездный храм? И где? На моей — только подумайте! — на моей земле. И кто? Мой раб…
— Омар Хайям — ученый, поэт. И не может быть рабом. Он человек свободный.
— Что ж, — понурил голову сельджук. (Эх, если б знал он тогда, в Нишапуре!..) Что он может поделать, темный воитель, раз уж в этой несчастной стране опять началось засилье книгочеев? Он уйдет. И, уходя, он, бездомный дервиш Рысбек, вознесет к престолу аллаха молитву о благе султана, охмуренного персами-пройдохами…
— Прощай! — ехидно сказал визирь, легко расхаживая перед ним, здоровый и крепкий в свои пятьдесят семь, как молодой человек. Остановился, ткнул сельджука длинным пальцем в жирную грудь. — Будешь там, в суфийской общине. которого ты довел до нищеты и безумия.
Через день по дворцу разнеслась дурная весть: Рысбек, забрав свой трехсотенный отряд, покинул Исфахан. Ну, ушел так ушел. Не в том беда, что глупый человек избавил всех от своего несносного присутствия. А в том, куда он ушел. В Нишапур, в суфийскую общину? Как бы не так…
Бей Рысбек, конечно, смешон и ничтожен. Как тряпичная кукла в балагане бродячих скоморохов. Но смешная тряпичная кукла- пузатая, неуклюжая, набитая опилками, — не поджигает свой родной балаган. А живые пузатые пучеглазые вздорные куклы из большого балагана жизни то и дело жгут его. Да, выходит, мир — балаган, причем не столь веселый, сколь страшный, раз уж в нем впереди других самим себе на потеху мечутся, кривляясь в жутком лицедействе, такие страшные куклы. Тут уже не до смеха.
…Перед отъездом бей шепнул кому-то — с явным расчетом, что тот донесет султану, — что спешит под Казвин, на север, в горную крепость Аламут,[9] служить Хасану Сабаху. Зима уже настала, но в царском дворце в Исфахане не от нее всем сделалось холодно, неуютно, скорее — от этой черной вести. Особенно султану и визирю. Визирь приказал утроить дворцовую стражу.
— Хасан ненасытен. А что принесет ему Рысбек? Отправь под хорошей охраной, — дал совет он царю, — в дар баламуту из Аламута (визирь не чурался простонародных выражений) вместо обычных двух мешков золота четыре. И — сейчас же, чтобы опередить беглеца, — он будет мешкать, пробираясь на север по бездорожью.
Что до меня, я везде разошлю бывалых осведомителей. Под видом нищих, суфиев, странников, торговцев целебными травами. Государю надлежит знать обо всем, что происходит вдали и вблизи от него, о великом и малом, о плохом и хорошем. Какой ты царь, если не знаешь, что творится в твоей стране? А если знаешь, но ничего не предпринимаешь, тут уж ты вовсе никакой не царь. При древних правителях, если кто за пятьсот фарсангов от столицы отнимал у кого-то незаконно петуха, торбу сена, государь тотчас получал об этом весть и налагал на виновного взыскание. Дабы все видели: владыка неусыпен! Успокойтесь, повелитель. — Визирь улыбнулся султану как сыну. — Никто и ничего, даже дым, не пройдет незамеченным к Исфахану. И, если того пожелает аллах, мы обезвредим собаку Сабаха…
Но с этого дня над царским дворцом в Исфахане, над всеми, кто в нем обитает, над страницами книг, уже хранящихся или только еще задуманных здесь, над каменной кладкой будущих звездных строений как бы навис чей-то огромный желтый глаз. Днем он сверкал в виде солнца, ночью — в виде луны. Хмурая туча служила ему бровью, легкие перья облаков — ресницами.
Казалось, даже в дверных проемах, в нишах стенных, в пламени свеч присутствует его упорно следящий, хитрый тяжелый взгляд. И нигде не укрыться от злобного ока: ни на совете, ни в бане, ни в спальне. Ни за едой, когда вдруг из чаши в руке оно, ядовитое, может свирепо блеснуть прямо в твои глаза…
Новость по-своему взволновала и "эмира поэтов". "Одного уже выжил отсюда наш звездочет, — сказал себе Бурхани, с тоской Ощущая тошноту и слабость. — Негодяй! Теперь он, конечно, возьмется за меня. И за что такая напасть? Жаль, туркмен не доверился мне, я уехал бы с ним к наркоману Хасану. Ей-богу, я сам, наверно, скоро начну курить хашиш".
Омар же Хайям — тот жалел об одном: что не успел узнать у бея, куда он дел бедняжку Ферузэ…
***
Ему было в ту пору двадцать шесть с половиной, «Илиаде» Гомера — 1925.
Астроном Птолемей умер 994 года назад.
Христиане убили Ипатию 245 лет спустя, академия в Афинах закрылась через 114 лет после страшной смерти этой ученой женщины.
Галилей родится через 490 лет, Джордано Бруно сожгут на костре через 526.