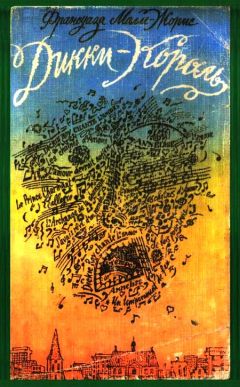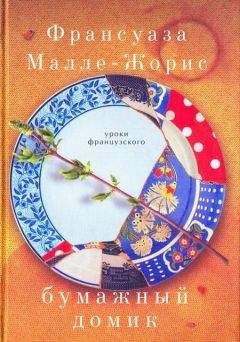— Вы и сами не догадываетесь о своей жестокости, — сказал ей Пуаро после одного из своих посещений, когда застал Дюбуа в подавленном состоянии.
— Я во всем полагаюсь на волю Господа, — возразила она.
— Но неужели вам не жаль своего супруга?
— Он умирает безгрешным. Хорошо бы и я перед смертью могла сказать о себе такое.
Врач чуть было со всей резкостью не указал ей на бесчеловечность подобного суждения, но увидел в глазах Элизабет такую явную боль, что смолчал. Он видел, что и она мучается, но ее мучения иного рода, чем у неразумного бедняги, терзающегося неожиданными сомнениями. Он был не прочь прийти ей на выручку, однако, по сути, относясь к нему с большим доверием, Элизабет не обнажала перед ним свою душу.
— Я ваш друг, — без явной связи с предыдущим проговорил он.
— Знаю. Я постараюсь, но…
На миг ее лицо стало беззащитным, на тот самый, должно быть, когда ее взору открылась истина: если бы она согласилась на то, чтобы Дюбуа существовал, она бы его возненавидела. Но этот миг прошел.
— Я постараюсь выказать больше терпения, — произнесла Элизабет.
Как будто от нее требовалось терпение! Как раз избыток ее старания и прикончил больного.
— Эли, вы меня любите?
— Ну конечно, мой друг.
И однажды на исходе сил он воскликнул:
— Вы, наверно, совсем без мозгов.
Она опустила глаза. Три дня спустя он умер в подавленном состоянии духа, которое окружающие сочли смирением. Элизабет очень горевала. Он так мало ее утруждал, кроме разве последних дней.
Городские дамы радовались за нее. Наконец, говорили они, Элизабет будет «вознаграждена за свою жертву». Под этим подразумевалось, что она унаследует капитал, который полагали более значительным, чем он был на самом деле. Наконец она сможет «пожить в свое удовольствие», то есть, по мнению этих дам, освободившись от вечно больного супруга, Элизабет станет принимать гостей, делать визиты (они объясняли уединенную жизнь Элизабет ее повышенным чувством долга) и, может быть, отыщет себе более подходящего мужа. Разве она уже не «исполнила свой долг»? В свои двадцать четыре года она оказалась одна и, сохранив прежнюю красоту, приобретя определенную материальную независимость и множество друзей, готовых о ней позаботиться (была у нее, правда, и обуза — три маленькие дочки), была вольна распоряжаться собой. Так что не грех было и позавидовать.
К счастью, возникшие денежные трудности отняли у Элизабет месяц-другой. Одной лишь скупостью не всегда разбогатеешь, и скряге деньги необязательно идут в руки; вот и оказалось, что Дюбуа богат не был. Старые друзья, естественно, выразили Элизабет сочувствие, ее то и дело вызывали к юристу и ей предстояло решать имущественные вопросы. Нужно ли ей продать свое поле? Сдать ли ей два-три домишка в аренду или попробовать продать их с торгов? Она блестяще выпуталась из трудного положения, встречая везде симпатию и восхищение: как же, такая молодая вдова! И вот настал день, когда все оказалось улажено. Вырубки в лесу позволили расплатиться с долгами, две маленькие фермы отданы внаем, несколько лугов близ дома тоже, и полученный небольшой доход представлялся достаточным для женщины, не приученной к роскоши.
— Когда вы сдадите внаем последний клочок луга (Дюбуа всегда этому противился, надеясь на постройку там нового дома), можете считать, что ваши финансовые дела почти вконец поправились, — сказал нотариус. — Тогда вы будете вправе немного подумать и о себе.
Подумать о себе! Ничего себе сразил! Элизабет, сопротивлявшаяся настоятельному присутствию умирающего Дюбуа, должна была теперь сопротивляться его отсутствию. Элизабет была одна и свободна. Она так тщательно, так скрупулезно наладила повседневную жизнь в своем старом доме, что все делалось как бы само собой: стирка, утюжка, чистка медных вещей, фарфоровой посуды, мебели, работа в саду, работа по дому, — Марта справлялась со всем, как хорошо налаженный автомат, имея в подчинении лишь одну помощницу и маленького мальчика, выполнявшего роль садовника. Два раза в неделю к хозяйке дома и ее дочкам приходила портниха. По-прежнему посещали их жилище аббат Варине и доктор Пуаро. В библиотеке с ее большими медными канделябрами, дубовыми панелями, зелеными гардинами, как и раньше, было тихо и сумрачно. Маленькая уютная молельня, где Элизабет провела столько ночей, была тут же со своими ангелочками, благочестивыми картинками, бумажными цветами в вазах, скамеечкой для молитвы, реликвиями в расписном ящичке со стеклянной крышкой.
Однако Элизабет забыла про библиотеку, молельню, забросила книги, перестала молиться, теперь по всему дому она искала, где бы приложить свою энергию: меняла обои, все заново перегораживала, перекрашивала кабинет, освобождала антресоли. Девочки семенили следом. Друзья Элизабет радовались, видя в ее возбужденности признак возвращения к жизни. В таких случаях старые люди вздыхают: «Жизнь берет свое». Элизабет же они были очарованы, так как на монотонном фоне их серых будней молодая женщина явно выделялась как личность незаурядная, от которой, несмотря на, казалось бы, незначительность ее поступков, можно ждать еще немало неожиданностей. И было бы вполне естественным, если такой неожиданностью оказался бы блестящий повторный брак. Все знали историю о советнике лотарингского двора, которому столь решительно отказала Элизабет еще при Дюбуа: может, теперь он появится вновь? Или гравер Апье? В самом Нанси женихов хватало, и красота Элизабет, ее репутация ученой и добродетельной женщины с лихвой возместили бы ее невеликий достаток и придачу в виде трех дочек. Ожидали, таким образом, назидательной развязки, вознаграждения добродетели. Беспокоились только врач и служанка, Шарль Пуаро и Марта (добрая толстуха, круглая и розовощекая, обожавшая Эли): они слишком хорошо знали Элизабет, чтобы поверить, будто выбор обоев мог ее занимать, как она пыталась убедить в этом других.
На самом деле ей казалось важным утаить ото всех все более и более возраставшую в ней с каждым днем тревогу. Домашние дела, в которые она теперь с неожиданной скрупулезностью вникала, были для нее как бы отдушиной, противоядием. Ей представлялось, что, обремененной работой, занятой, ей удастся скрывать свою подавленность и это предохранит ее от напастей еще на какой-то период. Думая, что она выигрывает время, Элизабет заблуждалась. Правда, необходимость сохранить небольшое состояние для детей на несколько недель поддержала ее. Теперь возникала настоятельная потребность (так говорила Элизабет) привести в порядок дом, который она запустила во время болезни мужа. Она старалась изнурить свое тело, занять свой мозг этими бесконечно малыми величинами, однако, остановившись на секунду, она тут же в мгновение ока чувствовала тревогу, головокружение, с которыми не удавалось совладать. Снова перед взором Элизабет вставал умирающий, его непостижимый гнев, непонятное беспокойство. Она вспоминала об утешениях аббата Варине: «Грешить? Бедняжка! Он и понятия не имеет, что значит грешить». Элизабет была того же мнения. Ее муж не имел понятия, а она имела. С детства. Зло распространялось вокруг нее, незаметное, неуловимое и все же реальное. Она ощутила его в речах Клод, в гневе Льенара, в самой сердцевине чудовищного союза ее родителей. Элизабет хотела это забыть и за годы спячки забыла (однако внутренний голос шептал, что ее спячка, возможно, неугодна Богу, что она, возможно, не самое надежное убежище: разве не чудился ей иногда в молельне еле слышный полет демонов?). Она забыла, и разве не доказательство этому, что она отказала умирающему в его просьбе, должна была отказать, несмотря на свою жалость, желание утешить, и ее отказ, может, и доконал несчастного супруга (да, несчастного, ведь он не мог унести в могилу даже воспоминание о грехе, даже раскаяние)? «Так даже лучше», — думала она с дрожью вечером, прежде чем лечь в широкую кровать, где он незаметно для себя уснул навеки. «Он покоится в мире». Так неужели незнание — необходимое условие для мира и покоя? И потом, разве она боялась призрака? Марта как-то спросила хозяйку:
— Вы будете продолжать спать в этой комнате, мадам?
— А почему бы и нет?
— А если ваш муж…
— Вы сошли с ума.
Как может вернуться тот, кого даже никогда не было, тот, кому Элизабет, разбирайся она в себе лучше, даже бы не позволила быть? Нет, Элизабет этого не боялась, ведь, по существу, он умер для нее совсем. Боялась она другого. В ней пробуждалось то, что можно было бы назвать искушением (если восходить к истоку, пробудилось оно в тот день, когда в глазах Мари-Поль она увидела отражение своего детства), если бывает искушение в чистом виде, независимое от всякого внешнего желания, от всякой телесной оболочки, или желанием зла, потому что именно зло наложило неизгладимый след на ее внутреннюю жизнь, и, чтобы обрести ее вновь, надо было пройти через зло, вспомнить о зле, оживить его. Как не смогла Элизабет почувствовать биение источника, что зовется материнской любовью, до того как увидела страдания и слезы собственного ребенка, так не в состоянии она была вновь почувствовать в себе порыв к Господу, изначально не искаженный, не оскверненный материнским дознанием и материнской любовью, которая и пробудила ее к настоящей жизни, и навсегда искалечила. Оставалось то, что она на протяжении многих лет именовала покоем, то, чему она предавалась долгое время, полагая это своей обязанностью, но что на практике оказывалось лишь карикатурой на действительное подвижничество души, ведь такое подвижничество предполагает веру, ее же порыв к Богу строился на отчаянии. Она не желала больше этого покоя, она задыхалась и инстинктивно отвергала покой с тех пор, как предлог для него был отброшен. Невинные слова нотариуса: «Теперь вы будете вправе подумать и о себе», — испугали ее, подобно угрозе. Она была одна и свободна. Одна и свободна. Стоило ей на мгновение прервать свои пустячные занятия, как этот припев, странный и грозный, вновь звучал в ее голове. Временами Элизабет казалось, что она не в силах удержаться, остаться прежней благоразумной и спокойной женщиной, что она сейчас закричит, забегает, замашет руками, выдаст много такого, что сделает явным… Но что именно она сделает явным? Элизабет не знала. Она лишь требовала у доктора Пуаро все больше опиумных таблеток.