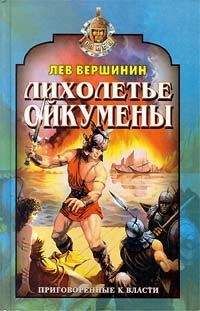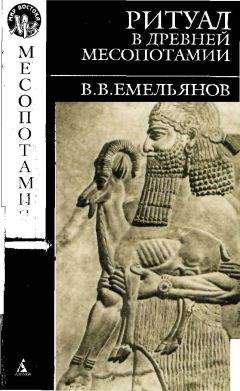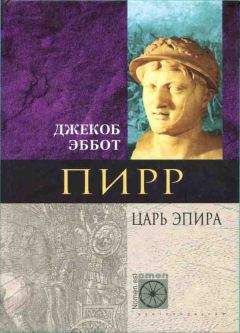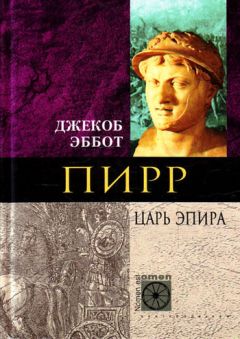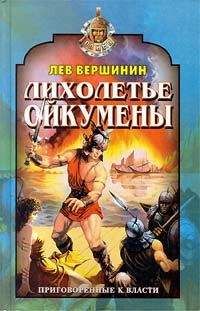– Господин!
Неслышно появившись рядом, начальник стражи позволяет себе подать голос.
– Выборные от войска прибыли!
О! Славно! Славно! Судьи на месте. Впрочем, уже и пора. Восход давно наступил, и утро обещает быть ясным.
– А обвинители?
– Давно уже здесь, господин. Иные еще с вечера.
Прекрасно!
– Накормить всех! И напоить! – приказывает Кассандр.
Обтеревшись широким грубым полотенцем, наместник возвращается в свои покои, к заждавшимся постельничим. Скептически прищурившись, долго и придирчиво разглядывает приготовленные одежды.
Пурпур и золотое шитье? Ни к чему. Нынче фазанья вычурность излишня. Тем более из персидских трофеев, присланных еще Божественным. Старье. Белое с алым узором? Лучше. Но тоже чересчур легкомысленно. К тому же покрой явно греческий. Не стоит. Как-то это будет не так.
Не по-македонски. А вот кожушок мехом кверху, это, пожалуй, чересчур по-македонски. В духе времен царя Филиппа. Тоже не то. Мы же, слава Зевсу Олимпийскому, не какие-нибудь горные варвары…
Черный хитон с черным же гиматием? Э-э-э… нет. Вовсе ни к чему. Сегодня день не нашего траура.
Ага!
Повинуясь едва уловимому движению круто изогнутой брови, вышколенные служители подносят простую воинскую тунику, как положено, – алую, чтобы не так заметна была пролившаяся из ран кровь.
Туго перетягивают тонкий стан широченным кожаным поясом, густо усеянным вычищенными медными бляхами. И умело, туго, но не слишком, затягивают жесткие ремешки и застежки легкого, едва ли не игрушечного, и все-таки вовсе не парадного панциря.
Теперь – плащ.
Просторный, без всякой новомодной бахромы и прочих излишеств, обычный гиматий македонского воина ложится на мощные, сравнимые с отцовскими, плечи Кассандра, и фибула с неярким, благородно-синим камнем схватывает мягкую ткань чуть ниже узкой, аккуратно подстриженной бородки.
Искусно вышитый серебряной нитью, щерится на алой ткани плаща вставший на дыбы македонский медведь-шатун.
Умному – достаточно.
Разъяренный горный медведь, древний знак рода Аргеадов, украшает одеяние наместника Македонии, повелителя островов и полномочного стратега-гегемона греческих полисов Кассандра, сына Антипатра.
До сих пор наместник не позволял себе столь прозрачных намеков.
Но сегодня – особенный день.
Одернув гиматий, Кассандр сосредоточивается, в последний раз спрашивая себя: не забыто ли что?
И отвечает сам себе с уверенностью: нет.
Все обдумано. Все взвешено. Все учтено.
Обидно, конечно, отпускать родню безумца. Надежнее было бы придержать и бабенок. Но ничего не поделаешь. И, в конце концов, немного же радости от этого семейства будет Антигону…
– Господин мой, изволь к столу, – кланяется раб.
Вздор. Не до еды нынче. Потом, может быть…
Видишь ли ты меня, отец? Я уверен: видишь!
Рад ли ты?
Я знаю, отец: ты, незримый, тоже придешь сегодня туда, на площадь, где будет вершиться суд, чтобы лично проводить до самой ладьи Харона проклятую упыриху!..
Несколько отрывистых, никому из рабов не понятных фраз на ходу бросает Кассандр архиграмматику, не имеющему возраста управителю тайной канцелярии, и желтолицый евнух, верой и правдой служивший еще старому Антипатру, почтительно и безмолвно кивает в ответ.
Вот и все.
Пора.
Но почему-то хочется помедлить, хоть немного растянуть ожидание. Слишком долго мечталось об этом дне, и так жаль превращать мечту, ставшую привычной, в Историю…
Но что поделаешь?
Быстрым упругим шагом не сомневающегося ни в чем победителя сбегает по крутым замшелым ступеням наместник и верховный правитель Македонии Кассандр, и воины в начищенных доспехах резко выбрасывают в стороны копья, приветствуя вождя, а от коновязи доносится радостное, заливистое ржание.
Белогривый конь доброй македонской породы, лишь капельку, для резвости и красоты, приправленной кровью азиатских скакунов, заждался обожаемого господина.
Конюхи ведут его к крыльцу, с трудом удерживая за повод приплясывающее на ходу шелкошерстное чудо, а где-то там, в залитой яростным светом утреннего солнца опочивальне, жалкий и бессильный, прячется в укромных уголках, в щелках, в складках полога, под ложем, и скулит, и плачет, и жалобно стонет уже забытый наместником – о, надолго ли?! – Ужас…
Македония. Пелла. Храм Эриний Мстительниц. Полдень того же дня
Приоткрывшаяся дверь, натужно проскрипев, впустила в вязкую, подсвеченную лишь плошками масляных лампад полутьму алтаря резкий солнечный лучик.
– Пора, госпожа!
Сотник-гетайр, человек серьезный, празднично одетый в златотканый гиматий и шапку из пятнистой шкуры горного барса, потоптавшись на пороге, несмело шагнул в сумрак молельни, и голос, ему самому на удивление, прозвучал робко и просяще, словно у набедокурившего мальчишки.
– Госпожа, пора…
– Я слышу! – спокойно, не унижаясь даже и до надменности в разговоре с трепещущим ничтожеством, откликнулась Олимпиада.
Дошептав молитву, она в последний раз, не вставая с колен, заглянула в спокойное, снисходительно-внимательное лицо мраморного Зевса.
Словно прощаясь.
Резко дунув, погасила лампадки.
И величественно, одним плавным движением, поднялась на ноги, оказавшись ростом почти что вровень с долговязым гетайром.
– Следуй за мною, раб!
И воин, отступив на шаг, поклонился и пропустил Царицу Цариц вперед, нарушив строжайшие указания, данные ему накануне архиграмматиком наместника…
Не подсудимая, трепетно бредущая к пристрастному судилищу, нет – повелительница, надменно вскинув голову, покрытую вдовьим платком, гордо прошла по главному портику, и гетайры Кассандра шагали на почтительном расстоянии, словно не тюремщики, а соматофилаки почетной стражи.
Улыбаясь, вышла она на мраморную площадку перед храмом, шагнула вперед…
И замерла.
Изумрудные глаза на миг заискрились нехорошим, пугающим пламенем, которого так опасался давно уже мертвый Филипп Македонский.
Замерцали.
Угасли.
Этого следовало ожидать.
Почти полный год провела она в заточении, оторванная от всего мира. Не было, правда, ни голода, ни издевательств, ни даже каких-либо ущемлений, оскорбительных для ее сана. Ей оставили даже прислужниц, троих на выбор. Отняли лишь свободу. А взамен подарили долгие, тягостные ночи без сна и тлеющий под сердцем, ненавистный и непреодолимый страх: что же сделает с нею Кассандр?
Однажды, устав от ожидания, Олимпиада спросила себя: а я? Что бы сделала с ним я, сложись судьба иначе, не окажись Полисперхонт пустышкой? Поразмыслила. И содрогнулась, в подробностях представив кару, которой был бы подвергнут ненавистный враг…
А Кассандр ждал. Не приходил позлорадствовать. Играл с пленницей, словно большой, сытый котяра с загнанной, утратившей силы крысой.
Томил неизвестностью.
Мучил неизбежностью.
Вот уже год, как Олимпиада разлучена с внуком. И с дочерью. И с тем, вторым, взрослым уже внучонком, неудачным, но все равно любимым. И никаких вестей о брате, Эакиде. И никаких надежд. Если бы он был жив, она была бы на свободе. Или – давно уже мертва.
В живых Кассандр ее не оставил бы в любом случае…
Дни летели один за другим, складывались в месяцы, похожие один на другой, незаметные, словно стрелы в полете. Лишь однажды ее вывели из узилища. Чтобы показать бредущих понуро вереницей бородатых мужей, повесивших на шеи, в знак смирения, пояса с пустыми ножнами. Она узнала их всех, князьков-династов Горной Македонии, некогда клявшихся умереть во имя ее торжества. Смерти они предпочли покаяние перед Кассандром. Правда, среди скорбной процессии не оказалось Полисперхонта, но что удивляться? Этот, даже если жив, не мог бы рассчитывать на пощаду. Ему остается только отсиживаться, выжидая случая вернуться в свой горный замок. Или не вернуться, если боги сулят сыну Антипатра долгую жизнь.
Заметив ее, династы отводили глаза, а кто-то, она не разобрала, кто именно, даже выкрикнул грязное бранное слово, выслуживаясь перед наместником, которому, конечно же, не могли не сообщить об этом сопровождающие…
Олимпиада не сочла возможным обратить внимание на жалкую слабость несчастного. Она подняла руку, приветствуя тех, кто, как умел, пытался помочь ей и внуку.
А вчера ее привезли из узилища сюда, в маленький храм Эриний, покровительниц мести и гнева. Заперли у алтаря Отца Богов. И сообщили: пришло время ответить за все по законам Македонии.
Глупцы! Могли ли они знать, что Царица Цариц не боится Эриний? Напротив: мщение и гнев так давно стали смыслом и сутью ее жизни, что змеевласые богини сделались для матери Божественного едва ли не сестрами…
Олимпиада не доставила презренным радости насладиться своим замешательством. Просто кивнула и указала стражникам на дверь. И они ушли, почтительно поклонившись на прощание. Ушли, не оглядываясь. Лишь безвозрастный евнух, архиграмматик Кассандра, обернулся на миг, уже шагнув за прочную, окованную медью дверь, сморщил в усмешке лицо, похожее на печеное яблоко, и, прежде чем исчезнуть, едва заметно пожал плечами.