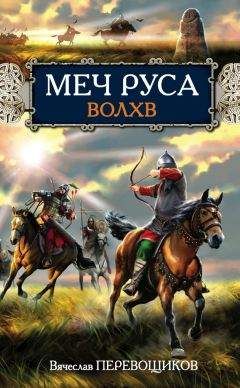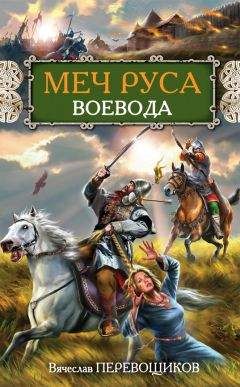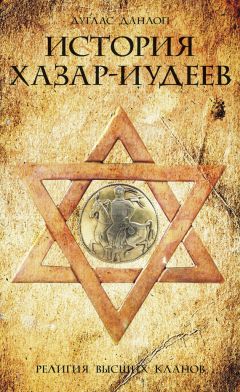На какое-то время он даже забыл про Радмилу, оставшуюся рядом с телом разведчика, но когда вспомнил о ней, то было уже поздно.
Это он понял сразу же, едва переступил порог башни. Девушка сидела около Ворона и, неотрывно глядя на мертвенно-бледное лицо, шептала какие-то странные слова.
– Что ты делаешь? – закричал воевода, рванувшись к ней.
– Стой! – закричала Радмила пронзительным, режущим голосом, и глаза ее полыхнули так, словно она метнула нож в воеводскую грудь. – Стой же, где стоишь, или ты не видишь, что я говорю с Мораной, и всякий, кто оборвет мою речь, дальше сам будет говорить с ней.
Воевода застрял в дверях на полушаге, и его суровое лицо покрылось пятнами гнева. Кулаки его сжались, превратившись в огромные пудовые кувалды из крепких костей и железных мускул. Рот его открылся, чтобы извергнуть не менее увесистую порцию отборной воеводской ругани, от которой даже бывалые дружинники бегали по заставе, как от ударов плетью, но ругань не успела сорваться с его губ, а рот так и остался открытым.
– Скорее, скорее иди сюда, – зашипела Радмила, растопыривая пальцы вытянутых рук, и ее прежде милое личико вдруг страшно оскалилось. – Круг дня еще не завершился, боги еще не сказали своего последнего слова, и Морана еще не может взять его насовсем.
Бледная, как полотно, девушка стала раскачиваться из стороны в сторону и мотать головой, и вдруг, выпучив глаза, дрожащей рукой указала в темный угол башни:
– Вот она! Она еще здесь! Она ждет своего часа, чтоб довершить свое черное дело. Иди же скорей! Помоги мне!
Воевода подошел неуверенными шагами, поглядывая с опаской то на темный угол, то на трясущуюся как в лихорадке девушку. Радмила между тем стянула с себя кольчугу и подкольчужник, оставшись в одной вышитой белой рубашке, и принялась раздевать бездыханное тело Ворона. Движения ее вновь стали размеренными и плавными, но, когда она повернулась к воеводе, ее глаза горели неземным светом, как два провала в бездну.
– Ну, помогай же, скорее, – сказала она.
Когда Ворон остался лежать голым по пояс, она раскинула его руки в разные стороны, положив мертвое тело крестом, и села верхом на его бедра. Голова ее запрокинулась, пальцы с лихорадочной быстротой принялись расплетать золотистые косы, а бледные губы торопливо зашептали:
– На крест Свянтовида тело кладу, дочь Свянтовида, Живу, прошу – Пресвятая Дева, посмотри на меня, дай мне жизни глоток до исхода дня, до исхода дня искру жизни одну, я ее на кресте в тело бело вдохну. Все, что есть, до последней капли отдам, перейди, моя сила, к мертвым губам! Волос на волос, слеза на печать, с поцелуем телу живому стать!
На последних словах заклинания глаза Радмилы вдруг наполнились бусинами слез, мерцающих, как самоцветы, в феерическом свете страшно расширенных зрачков. Волосы ее совершенно были распущены, до самой последней пряди. Она резко нагнулась вниз, к лицу Ворона, и золотой вихрь волос, взметнувшись всполохом огня, накрыл ее лицо и голову бездыханного тела. Руки ее легли поверх холодных рук и сцепили пальцы. Несколько секунд девушка была совершенно неподвижна. Потом раздался протяжный ноющий звук, и она чуть-чуть приподнялась. Медленно, очень медленно Радмила стала подниматься, скребя согнутыми пальцами по рукам Ворона, словно собирая с его тела невидимое что-то. И по мере того как она распрямлялась, ноющий звук все нарастал и усиливался, превращаясь в протяжный, леденящий душу вой. Этот вой исходил не с бледных судорожных губ, а из самой глубины хрупкого девичьего тела, словно его рождала каждая клеточка ее существа. Наконец пальцы Радмилы добрались до самой груди Ворона, вырвали из нее невидимое что-то и резко выбросили это что-то вверх. Голова ее при этом запрокинулась, и волосы, полыхнув огнем, перелетели золотым дождем на ее спину. Теперь стало видно, что бледные губы Радмилы были сомкнуты и страшный вой происходил от вдыхания воздуха особым способом. Казалось, девушка не вдыхала, а высасывала из воздуха некую силу. Слезы, прежде блестевшие в ее глазах, теперь лежали холодной влагой на закрытых веках Ворона. Руки простерлись вверх и застыли, чуть подрагивая растопыренными пальцами. Наконец вой стих, и воцарилась мертвая тишина, от которой у воеводы и раненого, вжавшегося в стенку, все внутри похолодело. Вдруг раздался пронзительный крик, и Радмила, резко наклонившись вперед, ударила пальцами рук в грудь Ворона. Воеводе показалось, что между ногтей, впившихся в бездыханное тело, пробежала голубоватая искра. В тот же миг губы юной колдуньи впились в мертвые губы. Видно было, как она вся сжалась от невероятного напряжения сил. Тело ее дрожало, как натянутая струна, которая вот-вот должна лопнуть, разорвав ее плоть пополам. Мгновения летели одно за другим, превратив время в плотную вязкую массу. И вот что-то изменилось вокруг, то ли ветерок дыхнул в приоткрытую дверь, то ли дождик серебряной метлой пробежался по пыльной дороге, но воины почувствовали, что дышать стало легче и неуловимый запах смерти исчез. Что произошло, никто не понял, но Радмила теперь уже не дрожала, а ее трясло все сильней и сильней в припадке бешеной судороги. Наконец истошный крик животного ужаса разорвал тишину, и колдунью словно подбросило; ее тело перевернулось, как страница книги под ураганным ветром, и упало спиной на сомкнутые ноги Ворона. В тот же миг раздался легкий стон. Этот стон, почти стертый из жизни, принадлежал только что воскресшему и был так слаб, что мог бы затеряться даже среди самого тихого шепота, но воины, без сомнения, различили его, и глаза их, полные суеверного ужаса, остановились на чуть порозовевшем лице.
Да, теперь Ворон был снова жив, точнее, он опять находился на границе между жизнью и смертью, и это хрупкое равновесие в любой миг могло быть нарушено. Никто не решался к нему прикоснуться, и стояла такая тишина, словно любое неосторожное дыхание могло порвать последнюю даже не нить, а паутинку, державшую измученную душу рядом с израненным телом. И эта сказочная, обволакивающая тишина окутывала всех живых, словно невидимый кокон, заставляя все вокруг двигаться медленнее и медленнее. И даже время, неугомонно сматывающее секунды жизни, отведенные каждому судьбой, замедляло свой бег и останавливалось. Все в боевой башне затихло, покоренное магией свершившегося волшебства возвращения жизни. Все, кроме воеводы, который никогда не забывал, что он один должен думать за всех. И теперь старый воин провел усталой рукой по глазам, словно отгонял мрачные тени призраков погибших здесь когда-то воинов, и, тяжело вздохнув, взялся за свое воеводское дело.
Сперва он медленно, кряхтя и охая, подошел к бледной, как полотно, Радмиле и взял ее на руки, прижав, как ребенка, к своей богатырской груди. Рука девушки безжизненно свесилась вниз, голова наклонилась набок, уронив поток золотых волос, словно боевой стяг, опущенный в глубокой скорби.
– Боже мой, что же ты наделала, дочка?! – выдохнул из себя воевода и понес колдунью на волю, к живительным лучам солнца и ласковым поцелуям настоянного на степных травах теплого ветра.
Сдернув с себя плащ, батько бережно уложил на него девушку и негромко позвал:
– Резан, где ты там?
– Здесь я, – глухо откликнулся высокий белобрысый парень с конопатым лицом, вырастая бледной тенью из-за угла башни.
Воевода то ли видел затылком, то ли был совершенно уверен, что парень будет здесь рядом, но позвал именно его, нисколько не напрягая свой голос.
– Здесь я, батько, – Резан сделал еще шаг, и солнце высветило воспаленные глаза, застывшие в напряженном и тревожном ожидании на лице Радмилы. – Что с ней такое?
– Ничего, – старый вояка отвернулся в сторону. – Устала маленько, спит.
– Как спит?! – испугался парень.
– Как, как! – вдруг заорал на него воевода. – Вот так; спит она, и все тут. Говорят же тебе: устала очень, вот и спит. Давай, неси медовуху живо, будем ее отпаивать.
Резан исчез и через десяток секунд стоял снова рядом, держа в руках бочонок и деревянный ковшик.
– Все, свободен, – не глядя на парня, буркнул батько.
Парень шагнул куда-то в сторону, а воевода взял в руки ковшик, плеснул туда из бочонка и напряженно задумался, пытаясь сосредоточить свои мысли на одном очень важном действии, но через пару секунд по лицу его пробежала тень раздражения.
– Я же сказал: свободен! – рявкнул он. – И не дай бог, я тебя здесь увижу и ты будешь слоняться без дела! В общем, ты мою руку знаешь!
Тень за башней тихо вздохнула и исчезла, но на этот раз без обмана. А воевода начал чудодействовать с медовухой, или, как он еще ее любил называть, священной сурьей и божьим даром. Через четверть часа Радмила уже сидела на плаще и озиралась ясными глазами, а батько едва сидел рядом, глядя на нее совершенно пьяными и любящими глазами, пустой же бочонок валялся рядом, продолжая намекать своим круглым боком, что не мешало бы выпить и еще.